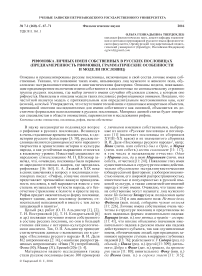Рифмовка личных имен собственных в русских пословицах (преднамеренность рифмовки, грамматические особенности и модели пословиц)
Автор: Твердохлеб О.Г.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 7 (160) т.1, 2016 года.
Бесплатный доступ
Описаны и проанализированы русские пословицы, включающие в свой состав личные имена собственные. Указано, что появление таких имен, называющих лиц мужского и женского пола, обусловлено экстралингвистическими и лингвистическими факторами. Описаны модели, показывающие преднамеренное включение имени собственного в аналогичные по синтаксическому строению группы русских пословиц, где выбор личного имени случайно обусловлен словом, с которым оно рифмуется. Выявлены и описаны модели таких пословиц с рифмующимися онимами. Показано, что частотной является модель с притяжательным или определительным местоимениями наш, всяк (всякий), каждый. Утверждается, что отсутствием тесной связи с единичным конкретным объектом, признанной многими исследователями для имени собственного как основной, объясняется их достаточно формальное использование в русских пословицах. Материал данной статьи будет интересен специалистам в области ономастики, паремиологии и исследования рифмы.
Ономастика, пословицы, рифма, имена собственные
Короткий адрес: https://sciup.org/14751089
IDR: 14751089 | УДК: 811.161.1
Текст научной статьи Рифмовка личных имен собственных в русских пословицах (преднамеренность рифмовки, грамматические особенности и модели пословиц)
В науке неоднократно поднимался вопрос о рифмовке в русских пословицах. Возникнув в очень отдаленные времена человечества, в «доистории русского фольклора» [3: 30], русские пословицы являются единицами устного народного творчества и хранителями истории и культуры народа, а как устойчивые выражения относятся к языковому уровню. Известный специалист по народному стихосложению М. П. Штокмар замечал, что, «очевидно, пословицы были первыми из народнопоэтических жанров, где зародилась рифмовка» [16: 163]. Е. А. Ляцкий в ХIX веке в своих замечаниях к вопросу о пословицах и поговорках писал: «Рифма, созвучие окончаний, представляет чрезвычайно важную принадлежность пословиц, в ней выражается вместе с тем степень музыкальной чуткости народа, его безотчетное стремление к полноте и красоте звука. Рифма придает окончательную форму пословице, вершит здание, делает пословицу (конечно, относительно) неподвижной и вместе с тем легко западающей в память»1.
Целый ряд работ (О. П. Альдингер [1], [2], Т. И. Востриковой [4], Т. Н. Кондратьевой [6] и др.) посвящен изучению имени собственного в составе русских пословиц, но они в большей степени связаны с историко-культурологическим анализом. Так, О. П. Альдингер приводит статистические данные о выявленных ею в словаре «Пословицы русского народа» В. И. Даля 812 антропонимах [2: 14], о наиболее распространенных антропонимах: «Иван (76 употреблений), Фома (50), Макар (31), Еремей (20)» [1: 4].
Материалом нашего исследования также стали русские пословицы (около 300 примеров)
с личными именами собственными, выбранные из книги «Русские пословицы и поговорки» [11] (включает пословицы из сборников ХVIII–ХХ веков) и из знаменитого сборника В. И. Даля «Пословицы русского народа»2, напр.: Иван (личн. имя собств.) был в Орде , а Марья (личн. имя собств.) вести сказывает [11: 117], в том числе и называющие отчество: Один у Мирона сын , да и тот Миронович (личн. имя собств., отчество) [11: 241]. Появление этих имен существительных в структуре пословиц действительно обусловлено экстралингвистическими (общерусскими) факторами: удобопроизносимостью имени, его широкой распространенностью, известностью и популярностью в русской языковой культуре, а также симпатией-антипатией народа к этому имени. Очевидно, что такие имена собственные могут называть: лиц мужского пола: По бедному Захару (муж. пола) всякая щепа бьёт [11: 254] и лиц женского пола: Не твое дело, Федосья (жен. пола), собирать чужие колосья [11: 226]. Личные имена собственные очень частотны в структуре пословиц и представлены во всех падежных формах: именительного падежа: Варвара (имен. п.) мне тетка , а правда – сестра. [11: 41], что вполне объяснимо значением именительного падежа в русском языке как падежа действующего субъекта, так как одушевленные имена, обозначающие людей, при предикатах занимают верхнюю ступень в иерархии глубинных падежей [13: 76]; родительного: У Сидора (род. п.) обычай, у Павла (род. п.) другой [11: 309]; дательного: Добро к Фоме (дат. п.) пришло , да промеж рук ушло [11: 80]; винительного: Фоку (вин. п.) да Якова (вин. п.) и сорока знает [11: 315];
творительного: Если бы не был молодцом , Акуль-кой (твор. п.) бы звали [11: 92]; предложного: Ведают о Ерёме (предл. п.) в большой хороме 3.
Однако кроме экстралингвистических факторов есть и собственно лингвистические причины использования имен собственных в русской пословице, в частности для преднамеренной рифмовки. Рифма в пословицах «преимущественно простая, точная и парная, охватывающая созвучием обычно большое количество звуков» в наиболее существенных словах – главным образом в существительных и глаголах [5: 105]. О рифмовке имен собственных в русских пословицах писал В. И. Даль в своем «Напутном слове». Разграничивая у пословицы «внутреннюю и внешнюю одежду» и понимая под последней «грамматику и просодию»4, он относил личные имена «ко внешней одежде пословиц», так как они «большею частию взяты наудачу, либо для рифмы, созвучия, меры: таковы, например, пословицы, в коих поминаются: Мартын и алтын, Иван и болван, Григорий и горе, Петрак и батрак, Мокей и лакей и пр.»5. С. Г. Лазутин указывает, что антропонимы включаются в пословицу в прямой зависимости от того, «с каким словом это имя должно рифмоваться» [7: 145]. Однако определенные аспекты рифмовки антропонимов все же изучены недостаточно, в частности нигде не описано синтаксическое строение пословиц с рифмующимися онимами, наглядно показывающее преднамеренность такой рифмовки. Этим обусловлена актуальность данной работы, продолжающей наше исследование рифмовки пословиц, начатое в [14], [15]. В этой статье мы обратимся к грамматическому анализу рифмовки онимов в русских пословицах, подробно опишем модели, включающие в свой состав личные собственные имена, выбор которых обусловлен словом, с которым оно рифмуется.
О преднамеренном включении имени собственного свидетельствуют по крайней мере две группы пословиц:
-
1) с попарно подобранными рифмующимися именами;
-
2) с аналогичным синтаксическим строением. Опишем несколько подробнее обе группы.
-
1. Наш материал показывает, что в пределах одной пословицы (в ряду однородных членов или в частях сложного предложения) могут быть попарно подобраны, намеренно, каждое «под свою рифму»:
-
2. Преднамеренное включение имени собственного особенно видно в аналогичных по синтаксическому строению группах пословиц, где выбор личного имени собственного случайно обусловлен словом, с которым оно рифмуется, когда имя собственное как бы подстраивается под рифму. Ср. рифмы в пословицах, имеющих однотипную синтаксическую структуру:
а) сразу два личных имени собственных, ср.: Варлам (личн. имя собств.) ломит пополам , а Денис (личн. имя собств.) со всяким делись ! [11: 42]. Еще примеры: Федул всех надул , а Денис на суку повис [11: 314]; Ефрем любит хрен , а Федька – редьку [11: 93]; Горе, горе , что муж Григорий : хоть бы болван , да Иван [11: 67]; Ипат наделал лопат , а Федос продавать понес [11: 120]; Тезоименита лопата
Ипату , а Вавиле – могила [11: 299]; Барашки у Малашки , а две сумы у Фомы [11: 16]; Били Фому про куму , а Трошку про кошку [11: 21]; б) три имени собственных: Ванька , встань-ка .
Сёмка , пойдем-ка ; да ступай и ты , Исай ! [11: 41]. Ср. также пословицу, состоящую только из слов, попарно рифмующихся между собой: Сашки – канашки ; Машки – букашки ; Маринушки – разинюшки 6;
в) и даже пять имен собственных, представленных, напр., в таком перечне: Вавило , красное рыло . Иван болван . Андрей ротозей . Федул губы надул . Пахом вся рожа в один ком 7.
-
• в модели : «Наш + личное имя собственное + (…) + слово, рифмующееся с именем собственным» рифмы Андрей – злодей , Антон – (о) том и др., ср.: Наш Андрей (личн. имя собств.) никому не злодей . Наш Антон (личн. имя собств.) не тужит о том : мать умирает , а он со смеху помирает [11: 204]. Это очень частотная модель, приведем еще примеры: Наш Афоня в одном балахоне и в пир , и в мир , и в подоконье . Наш Мишка не берет лишка [11: 204]; Наш Пахом с Москвой знаком . Наш Сергунько не брезгунько – ест пряники и неписаные. Наш Тарас не хуже вас . Наш Фаддей ни на себя, ни на людей . Наш Филат всегда виноват . Наш Филат не бывает виноват [11: 205]. Ср. варианты:
○ «Нашего (нашему) + личное имя собственное + (…) + слово, рифмующееся с именем собственным»: Нашего Мины не проймешь и в три дубины . Нашего Обросима невесть куда забросило . Нашему Ивану нигде нет та-лану : к обедне пришел – обедня прошла , к обеду пришел – отобедали [11: 205];
○ «У нашего (нашей) + личное имя собственное, + (…) + слово, рифмующееся с именем собственным», ср.: У нашего Гришки нет отрыжки . У нашего Андрюшки нет ни полушки . У нашего Тита за пьянство спина бита . У нашего Филата спина горбата . У нашей Пелагеи все новые затеи . У нашей Федосьи из глаз растут волосьи [11: 308];
-
• в модели : «(Не) Всяк + личное имя собственное, про себя (себе) + слово, рифмующееся с именем собственным», ср.: Всяк Демид себе норовит . Всяк Еремей про себя разумей : когда сеять, когда жать, когда в скирды метать [11: 54]; Не всяк Наум (личн. имя собств.) наставит на ум . Не всяк Тарас подпевать горазд [11: 211]. Отметим варианты модели:
○ «Всякий (Всякая) + личное имя собственное + (…) + слово, рифмующееся с именем собственным», ср.: Всякий Демид (личн. имя собств.) себе норовит . Всякий Филат на свой лад . Всякий Яков про себя вякай . Всякая Хов-ря знай свою ровню [11: 55];
○ «(Не) Всякому + по + имя собственное + (…)», напр.: Всякому по Якову [11: 55];
○ «У всякого + личное имя собственное, своя (свои) + слово, рифмующееся с именем собственным»: У всякого Павла своя правда . У всякого Гришки ( Ермишки ) свои делишки . У всякого Федотки свои отговорки [11: 306];
○ в модели : «Каждый (Каждая) + личное имя собственное + (…) + слово, рифмующееся с именем собственным», ср.: Каждая Алёнка хвалит свою бурёнку [11: 122]; Каждый Еремей про себя разумей . Каждый Никитка хлопочет о своих пожитках [11: 123];
-
○ в модели : «Каков + личное имя собственное, таков + слово, рифмующееся с именем собственным»: Каков Мартын , таков у него и алтын [11: 128]. Ср. также варианты этой модели: «Каков (какова) + (на) имя собственное, такова (таково, такова) + слово, рифмующееся с именем собственным»: Каков Ананья , такова у него и Маланья . Каков Дема , таково у него и дома [11: 128]; Каков Пахом , такова и шапка на нем . Каков Савва , такова ему и слава . Какова Аксинья , такова и ботвинья [11: 129]; Каково на Фому , таково и самому [11: 130];
-
• в модели : «У + личное имя собственное + слово, рифмующееся с именем собственным», ср.: У Акульки хороши бакульки [11: 305]; У Ивашки белая рубашка . У Ипата к пирогам борода с лопату [11: 307]; У Николы две школы : аз , буки учат да кануны твердят [11: 308]; У Парашки что глаза у барашки [11: 309]; У Фили были , у Фили пили , да Филю ж и побили ( били ) [11: 310];
○ в модели : «Худ + личное имя собственное, + когда + (…) + слово, рифмующееся с именем собственным», ср.: Худ Матвей когда не умеет потчевать гостей . Худ Роман , когда пуст карман [11: 211].
В пословицах описанных групп может рифмоваться сразу пара личных имен собственных типа Ананья – Маланья , ср. модель: «Каков + имя собственное, такова (…) + слово, рифмующееся с именем собственным»: Каков Ананья , такова у него и Маланья [11: 128].
Наибольшая частотность пословиц, построенных по моделям «Наш + личное имя собственное + (…) + слово, рифмующееся с именем собственным», «Всяк + личное имя собственное, про себя (себе) + слово, рифмующееся с именем собственным», «Каждый (Каждая) + личное имя собственное + (…) + слово, рифмующееся с именем собственным», а также их вариантам, мы объясняем наличием в их структуре притяжательного или определительного местоимений наш, всяк (всякий), каждый. Такие «универсальные» местоимения употребляются «в утверждениях, касающихся всех объектов некоторого класса» [9: 134], при этом в высказываниях, начинающихся словами типа «каждый человек» и т. п., «лицо» выступает как «собирательная национально-языковая личность» [8: 167]. Приблизительно с таким значением используются в пословицах описанные нами онимы, употребление которых Ф. И. Буслаев считает видом синекдохи, так как «живее и нагляднее употребить название лица вместо человека вообще»8. И следовательно, характеризуются они не только общепризнанной «семантической редукцией» [10: 13] или отсутствием «связи с понятием» [12: 32], но и отсутствием «тесной связи с единичным конкретным объектом» [12: 32], признанной многими исследователями для имени собственного как основной.
Именно такой возникающей семантической опустошенностью анализируемых нами онимов, видимо, и объясняется их достаточно формальное использование в русских пословицах. О семантической опустошенности имени собственного свидетельствует также возможность трансформации пословицы с заменой онима типа: Всяк ( Семён ) Аксён про себя умён [11: 54] или с его устранением типа: Наш никому не злодей или Всяк про себя умён, что в принципе наблюдается в пословицах с субстантивированными местоимениями со значением лица, ср. примеры с местоимением наши (во мн. ч., имен. п.): Наши в поле не робеют. Наши дерутся , так волосы в руках остаются. Наши плачут , да и ваши не скачут [11: 206]; с местоимениями всяк , всякий (в ед. ч., имен. п. или дат. п.): Всяк своё хвалит. Всяк своим умом живёт. Всякий спляшет , да не как скоморох. Всякий сам на себя хлеб добывает [11: 54]; Всякому своё дитя жалко. Всякому своё счастье [11: 56] и с местоимением каждый (в ед. ч., имен. п. или дат. п.): Каждый кружится по-своему : один кругом , другой через голову . Каждому добрый – себе злой . Каждому своя болезнь (ноша) тяжела [11: 54].
Таким образом, в русских пословицах достаточно частотны личные имена собственные, появление которых обусловлено экстралингви-стическими и лингвистическими факторами. По собственно лингвистическим причинам имена собственные используются в русских пословицах для преднамеренной рифмовки, что особенно наглядно проявляется в пословицах с попарно подобранными рифмующимися именами или с аналогичным синтаксическим строением. Наибольшая частотность анализируемых пословиц с онимами, рифмующимися с апеллятивами, обусловлена наличием в их структуре притяжательного или определительного местоимений наш , всяк ( всякий ), каждый . Отсутствием тесной связи с единичным конкретным объектом, признанной многими исследователями для имени собственного как основной, объясняется достаточно формальное использование онимов в русских пословицах.
PERSONAL PROPER NAMES’ RHYME SCHEMES IN RUSSIAN PROVERBS (PREMEDITATED RHYMES, GRAMMATICAL FEATURES AND PATTERNS OF PROVERBS)
Список литературы Рифмовка личных имен собственных в русских пословицах (преднамеренность рифмовки, грамматические особенности и модели пословиц)
- Буслаев Ф. И. Русские пословицы и поговорки, собранные и объясненные Ф. Буслаевым. М.: Тип. А. Семена, 1854. 116 с. С. 59
- Альдингер О. П. Имя собственное в составе «Пословиц русского народа» В. И. Даля: статистический аспект//Седьмые Поливановские чтения. Смоленск: СГПУ, 2005. Ч. III. С. 3-11.
- Альдингер О. П. Фразеономастическая картина мира в «Пословицах русского народа В. И. Даля»: Автореф. дис.. канд. филол. наук. Смоленск, 2006. 24 с.
- Андреев Н. П. Проблема истории фольклора//Советская этнография. 1934. № 3. С. 28-45.
- Вострикова Т. И. Антропонимы в «Пословицах русского народа» В. И. Даля: к возможности лексикографического описания//Актуальные проблемы современной лексикографии. Словарная работа в школе и вузе: Матералы Всерос. науч. конф., Астрахань, 24-26 сент. 1998 г./Науч. ред. А. Н. Тихонов. Астрахань: Астраханский пед. ун-т, 1999. С. 115-119.
- Глухих В. М. О благозвучии пословиц и поговорок//Русская речь. 1991. № 2. С. 103-106.
- Кондратьева Т. Н. Собственные имена в месяцесловах, пословицах, поговорках, загадках, заговорах и сказках русского народа/Науч. ред. М. О. Новак. Казань, 2004. 340 с.
- Лазутин С. Г. Ритм, метрика и рифма пословицы//Поэтика русского фольклора. М.: Высш. шк., 1989. С. 136-141.
- Овчинникова И. Г. Ассоциативные структуры и текст//Проблемы современного теоретического и синхронно-описательного языкознания. Вып. 4: Семантика и коммуникация/Под ред. Л. В. Сахарного. СПб.: СПбГУ, 1996. С. 163-111.
- Падучева Е. В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью (референциальные аспекты семантики местоимений). М.: Эдиториал УРСС, 2002. 232 с.
- Реформатский А. А. Топономастика как лингвистический факт//Топономастика и транскрипция. М.: Наука, 1964. С. 9-34.
- Русские пословицы и поговорки/Под ред. В. Аникина; Сост. Ф. Селиванов, Б. Кирдан, В. Аникин. М.: Худож. лит., 1988. 431 с.
- Суперанская А. В. Апеллятив -онома//Имя нарицательное и собственное: Сб. науч. ст./Отв. ред. А. В. Суперанская. М.: Наука, 1918. С. 5-33.
- Степанов Ю. С. Имена, предикаты, предложения: Семиологическая грамматика. М.: Наука, 1981. 360 с.
- Твердохлеб О. Г. ТРЕТЬЯ ЛАБИАЛИЗАЦИЯ ЗВУКА В В ДРЕВНЕРУССКОМ ЯЗЫКЕ: К ВОПРОСУ О РИФМОВКЕ РУССКИХ ПОСЛОВИЦ//Аванесовские чтения: Междунар. науч. конф.: Тез. докл./Под общ. ред. М. Л. Ремневой и М. В. Шульги. М.: МАКС Пресс, 2002. С. 258-260.
- Твердохлеб О. Г. Утрата конечного сонорного -л-вследствие падения редуцированных и рифмовка русских пословиц//Язык и поэтика русского фольклора: к 120-летию со дня рождения В. Я. Проппа/Отв. ред. Н. В. Патроева. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2015. С. 106-108.
- Штокмар М. П. Стихотворная форма русских пословиц, поговорок, загадок, прибауток//Звезда Востока. 1965. № 11. С. 149-163.