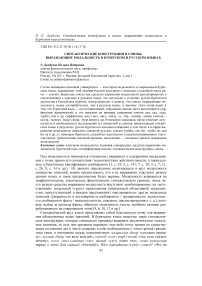Синтаксические конструкции и союзы, выражающие модальность в бурятском и русском языках
Автор: Дамбуева Полина Петровна
Рубрика: Проблемы изучения текста в разноструктурных языках
Статья в выпуске: 3, 2019 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена языковой универсалии - категории модальности в современном бурятском языке, выражению этой грамматической категории с помощью служебной части речи - союзов. Бурятские союзы как средство выражения модальности рассматриваются в сопоставлении с союзами в русс к ом языке, что актуально в условиях русско-бурятского двуязычия в Республике Бурятия. Автор приходит к выводу, что союзы, выражающие модальность, менее употребительны, чем в русском языке, и причину этого автор видит в том, что бурятский язык - агглютинативный, и функции союзов часто выполняются суффиксами деепричастий, и это показано на примере замещения союзов али, аад, хада, хэрбээ, hаа и др. суффиксами -аад (-оод, -өөд, -гаад), -н, -тар, -халаар, -мсаар (-мсоор, - мсээр, -мсөөр), -hаар (-hоор, -hээр,hөөр) и др. Резюмируя сказанное, автор отмечает актуальность и необходимость исследования тех изменений и сдвигов, происходящих в бурятском языке в результате русско-бурятского языкового общения, в том числе и в сфере выражения модальности (передача значений русских союзов (чтобы, как бы, чтобы не, как бы не и др.,) с помощью бурятских служебных частей речи и десемантизированных глаголов-связок; транспозиция значений времени, наклонения - основных средств выражения модальности).
Категория модальности, языковая универсалия, средства выражения модальности, бурятский язык, интерференция языков, синтаксические конструкции, союзы
Короткий адрес: https://sciup.org/148317716
IDR: 148317716 | УДК: 811.512.31’36+811.161.1’36
Текст научной статьи Синтаксические конструкции и союзы, выражающие модальность в бурятском и русском языках
Под модальностью понимается отношение говорящего к содержанию высказывания с точки зрения его соответствия / несоответствия действительности, а также разные субъективные квалификации сообщаемого [1, с. 55; 5, с. 141; 7, с. 10; 3, с. 7; 11, с. 26; 9, с. 34 и др.]. Из данного определения, включающего в круг модальности множество значений, можно предположить, что в их выражении участвуют разные уровни языка, и такое предположение будет верным. Модальность выражается на морфологическом, лексическом, фонетическом, синтаксическом уровнях; очень часто разные средства выражения модальности выступают комбинированно: на «естественный» модальный «грунт» предложения (образуемый объективной модальностью, присутствующей в каждом предложении) «наслаиваются» другие модальные значения (уверенности в достоверности сообщаемого / неуверенности, желательности сообщаемого факта / нежелательности, опасения, предостережения и т. д.), которые, выйдя за пределы фразы, образуют модальность текста, особенно активно разрабатываемую на современном этапе [4, 6, 10, 12 и др.]
Синтаксический ярус языка представляет собой благодатную почву для выражения обозначенных выше значений. В бурятском языке известны такие синтаксические конструкции, которые специально призваны выражать исключительно модальные значения, то есть они призваны выражать чью-либо точку зрения на существующее положение дел и часто содержат в себе необъяснимые с точки зрения грамматики связи и отношения между компонентами: захиралгын ёhoop «согласно приказу», хуулиин ёhoop «по воле властей», юундэб гэхэдэ (юуб гэхэдэ) «что; если сказать почему», нэгэл гэжэ (алимши гэжэ, шамай гэжэ) «одно что», гэхын хажуугаар наряду с этим; Бай саашаа! «Отстань!»; Юун балтаhанаа мэдэбэ гээшэб! «Что он может знать!»; Шүдхэрөө бүтээбэ гээшэб даа! «Черта с два сделает!»; Гайха гэлы! «Вот тебе на!»; Галди шамай! «Чтоб тебя!»; Ай, нохой халхай! «Тьфу, черт возьми!»; Яндуул даhаа «такой-сякой»; уйлөө харла ехэ «ни дна, ни покрышки»; сожоошьс татанагуй «и в ус не дует». Как видим, такие фразеологизированные предложения и словосочетания обозначают источник сообщения, подчеркивание отдельных моментов высказывания, намерение выполнить какое-либо действие, разные стилистические и логические пояснения, эмоционально-экспрессивное отношение к предмету речи и другие значения, квалифицируемые в научной литературе как модальные.
Синтаксическое повторение в бурятском фольклоре, синтаксический параллелизм в бурятской поэзии как метрическое средство текста, нетрадиционный порядок слов в предложении, его интонация, вводные слова и конструкции и другие синтаксические средства выражают объективные модальные значения, усиливая ощущение реальности происходящего, передают различные эмоционально-субъективные отношения говорящего к объекту своего высказывания.
Задачу выражения модальных значений, человеческого фактора в высказывании в ряде случаев, наряду с частицами бурятского предложения, могут выполнять союзы.
Наблюдения над бурятскими текстами показывают, что союзы (часто в сочетании с другими средствами) могут выражать следующие модальные значения:
- Значение неуверенности, сомнения: Һaйн хун гу, али муу хун гу. — «То ли он хороший человек, то ли он плохой».
– Убежденность, решительное намерение выполнить действие: Мунөө гу, али хэзээшье бэшэ! — «Сейчас или никогда».
- Субъективную квалификацию сообщаемого: Харахада хүбүүн лэ аад юрын хүбүүн — «На взгляд парень как парень (или: обыкновенный парень)». Гоёл аад гоё хубсаhан. — «Что ни говори, а красивая одежда». Yхибүүн лэ хадаа үхибүүн байна. — «Ребенок он ребенок и есть».
– Значение предположения: Минии удаан ерээгуй хада ши бү хүлеэгээрэй. — «Если меня долго не будет, ты меня не жди». Дайсанай добтолон ороо хада... — «В случае нападения врага...» Хэрбээ төөриhүүбди даа, яахабибди? — «А если заблудимся, что тогда?» Мунгэшье тулөө hааш ерэжэ угэхэгуй. — «И деньгами не заманишь». Хэды ехэ убhэ тэжээлтэй баигаашье haa, хонидые адуулангуй байха аргагуй. — «Как бы ни было много сена, овец нельзя не пасти». Y ндэгыем үнэгэн бэшэшье haa, хулгана үрэбхихэ. — «Если не лиса, так мышь съест мое яйцо» (из сказки).
– Предположение с большой долей уверенности: Хэрбээ түрүүшын удэрhөө эхилээд ажаллабал, хун бухэн абаhан уялгаяа дүүургэхэ. — «Если работать как следует с первого же дня, то каждый выполнит взятые обязательства».
– Значение согласия: Тиимэ хадаа hайн. — «Хорошо, если так». Yгы хадаа угы. — «Нет так нет». Бараг, бараг хадаа! — «Ладно, ладно!»
– Подчеркивание: Би haa хэлэхэгүй hэм. — «А я не сказала бы». Хэ рбээ би haa hypaгшадhaа бултанhаань асуухал hэм. — «А я спросил бы у учеников, у всех спросил бы». Тэрэш haa усэд. — «Он-то упрямый». Убгэдшье haa бahaа эндуурдэг. — «И старики ошибаются».
– Кроме того, союзы широко употребляются в составе вводных словосочетаний, которые всегда имеют модальное значение, выражая оценку степени достоверности сообщения, эмоционально-экспрессивную оценку сообщаемого, ссылку на источник сообщения: тиимэ (иимэ) хадаа (значит, стало быть); ехэдээл haa, ехэдээл хадаа (самое большее, в лучшем случае, по крайней мере); ядалсад гээ haa (в худшем случае, на худой конец); ямар хэмэршье haa (как бы то ни было) и др.
Союзы чаще выполняют модальные функции, употребляясь в составе сложного предложения: «Среди грамматических и лексических факторов, взаимодействием которых создается модальная характеристика сложных предложений, особая роль принадлежит специфическим для сложного предложения средствам — союзам, способным предопределять то или иное употребление синтаксических времен и наклонений» [2, с.653].
Во многих исследованиях так или иначе отмечается способность союзов быть средством выражения модальности, их близость к модальным частицам и модальным словам. Весьма определенно о наличии у союзов модальных значений и о необходимости изучения этого явления высказался В. В. Виноградов: «Модальные значения и оттенки русских союзов совершенно не изучены. Между тем этот вопрос крайне важен для более точного выяснения природы тех грамматических отношений, которые обозначаются союзами между синтаксическими единицами, между предложениями. Естественно, что изучение модальных значений союзов неразрывно связано с исследованием разных типов сложного предложения. Различия в модальных значениях союзов играют большую роль в дифференциации сочетания предложений, разных видов зависимости между ними» [1, с. 86–87].
Встречается в русистике и преувеличение роли союзов в выражении модальности: «Очевидно, союзы нужно рассматривать как ядро категории модальности, потому что роль модуса является их постоянной обязательной функцией в предложении. Модальная функция союза обусловлена самой природой этой грамматической категории, в то время кик другие модальные средства выполняют эту роль лишь эпизодически [8, с. 136].
В бурятском языке союзы менее разнообразны, чем в русском, а также менее употребительны. Это связано с агглютинативным строем бурятского языка, с тем, что суффиксы во многих случаях берут на себя и функции союзов. Tак, общеизвестно, что бурятские деепричастия очень легко связывают слова и предложения благодаря обилию в их составе суффиксов. Успешно заменяют союзы суффиксы деепричастий: -жа, -жэ, -жо: Халуун наранай элшэдэ хYбшын cahaн хайлажа, горхон урдаба. — «На горах стал таять снег от солнечных лучей, и побежали ручьи».
-
- аад. -оод, -еед, -гаад: Ошоод, Y36ed, хараад ерэе . — «Поедем, посмотрим и (да) вернемся».
-
- н: Бартахи бахардан мэгдэжэ, байжа ядан асууба ... — «Медведь, едва держась на ногах и еле дыша от испуга, спросил...».
-
- тар: Минии хэлэhээр байтар, тиишэ ши ошобош . — «Ты пошёл туда, несмотря на то, что я тебя предупреждал».
-
- халаар: Энээгээр дабахалаараа, айл харахаш . — «Когда перевалишь эту гору, увидишь селение».
-мсаар, -мсоор, -мсээр, -мсеер: Минии ерэмсээр, ябахаш. — «Поедешь, как только я приеду».
-
- haap, -hoop, -hээр, -heep: Би ошоhоор тиимэ юумэ дуулаагуйб . — «С тех пор, как уехал, я такого не слышал».
Таким образом, из приведенных примеров видно, что там, где бурятское деепричастие связывает простые предложения с помощью суффиксов, в русском сложном предложении это делается аналитически с помощью союзов — либо выражающих модальное значение, либо предопределяющих модальное значение придаточного предложения, чем, вероятно, и можно объяснить более частое употребление в русском языке союзов хотя, когда, потому что, так что, как, будто (будто бы), словно не…, якобы и др. При этом союзы — основное средство организации бурятского сложного предложения — могут выражать модальные значения, но могут быть и безразличными к ним. Описание всех союзов с этой точки зрения еще предстоит осуществить, как и описание тех изменений и сдвигов в бурятском языке, происходящих в результате интенсивного русско-бурятского двуязычия. Перспективным представляется исследование того, как передаются значения русских союзов чтобы, как бы, чтобы не, как бы не и др., предопределяющих модальность придаточного предложения, с помощью бурятских послелогов, аффиксов и глаголов-связок, среди которых очень заметна роль служебного глагола гэхэ. Описания требуют случаи нарушения порядка слов (под влиянием русского языка) с целью передачи модального значения подчёркивания, выделения наиболее важного отрезка речи; внимание привлекает и явление транспозиции наклонения и времени (основных средств выражения модальности), получившей описание в русском языке и теперь заметной и в бурятском: Ябахаяа боли — юун болохоб? «Ходить перестанешь — что будет?» Букв.: Ходить перестань — что будет? (Ср. в русском: Наше дело маленькое. Наше дело прокукарекать, а там хоть и не рассветай). Перенос значений времени хорошо видно на примере глагола мэдэхэ «знать». В значении «не знаю» этот глагол звучит как мэдэхэгүй (букв.: не будет знать), или бү мэдэе (букв.: давайте не будем знать); иногда в ответах встречается мэдэнэгүй (букв.: не знает). Под влиянием русского языка и ускоряющегося темпа жизни всё большее распространение получают назывные предложения, хотя бурятскому языку это явление глубоко чуждо: действия и качества в бурятском предложении не принято отрывать от их производителя и носителя. Перечисленные и другие связанные с ними вопросы ждут своего описания.
Список литературы Синтаксические конструкции и союзы, выражающие модальность в бурятском и русском языках
- Виноградов В. В. О категории модальности и о модальных словах в русском языке // Избранные труды. М.: Наука, 1975. С. 53–87.
- Давыдова А. А. Элементы модальности в структуре современного английского языка: автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1969. 19 с.
- Девина О. В. Авторская модальность в произведениях А. Т. Твардовского: автореф. дис. … канд. филол. наук. Калининград, 2012. 24 с.
- Демидова И. А. Средства выражения побудительной модальности в русском и английском языках: дис. … канд. филол. наук. Калининград, 2005. 198 с.
- Золотова Г. А. Модальность в системе предикативных категорий // Otazky slovanske sintaxe. Brno, 1973. Ч. 3. С.93–97.
- Капрэ Е. Н. Субъективная модальность в древнерусских и старорусских житийных текстах: автореф. дис. … канд. филол. наук. Калининград, 2011. 24 с.
- Лопатюк М. В. Ситуативная модальность в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» и в его испаноязычном переводе: автореф. дис. … канд. филол. наук. Калининград, 2009. 24 с.
- Ляпон М. В. Сочинения Курбского — источник для исследования явления модальности // Русский язык. Источники для его изучения. М., 1971.
- Мөнх-Амгалан Ю. Орчин цагийн монгол хэлний баймжийн ай. Улан-Батор, 1998. 370 с.
- Навалихина А. И. Ассоциативная структура значения слова и модальности восприятия. Уфа, 2013. 167 с.
- Пюрбеев Г. Ц. Категория модальности и средства ее выражения в монгольских языках // ВЯ. 1981. №5. С. 25–30.
- Собко Т. Ю. Побудительная модальность в дискурсе русскоязычной социальной рекламы: автореф. дис. … канд. филол. наук. Калининград, 2017. 23 с.