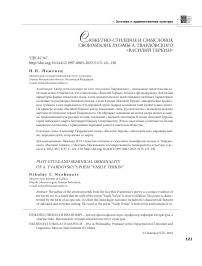Сюжетно-стилевое и смысловое своеобразие поэмы А. Твардовского «Василий Теркин»
Автор: Неженец Н.И.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Эстетика и художественная культура
Статья в выпуске: 5 (115), 2023 года.
Бесплатный доступ
Автор статьи исходит из того, что поэзия Твардовского уникальное свидетельство советской эпохи. Отмечается, что стиль поэмы «Василий Теркин» близок к фольклорному. Для поэмы характерна форма эпического сказа, в нем монологическое повествование включает характерные особенности разговорно бытового письма. Слово в поэме «Василий Теркин» одновременно иронично и гуманно, в нем выражается суть народной души, мудрое осознание этой душой основ сущего. На примере поэмы «Василий Теркин» автор показывает связь русской песни с психологическими чертами поэтических героев Твардовского. Он обращает внимание на мотив спора жизни и смерти, традиционный для русской поэзии, связанной с военной тематикой. В поэме «Василий Теркин» герой побеждает смерть благодаря боевому товариществу. Этико смысловые особенности поэмы напрямую соотнесены с принципами народной жизни в советском обществе.
Александр твардовский, поэма "василий теркин"
Короткий адрес: https://sciup.org/144162927
IDR: 144162927 | УДК: 81'367 | DOI: 10.24412/1997-0803-2023-5115-121-130
Текст научной статьи Сюжетно-стилевое и смысловое своеобразие поэмы А. Твардовского «Василий Теркин»
Александр Трифонович Твардовский (1910–1971) под воздействием Льва Толстого (а Толстой эстетико-этически вышел из эпоса Гомера), сосредоточился на теме войны. Поэзия в его главной «книге про бойца» заключается в самобытно-образной неожиданности слова, вобравшего в себя философию бытия, его историю и судьбу. Певец изобразил жизнь военную, батальнобытовую; а это состояние ее, как и обыденное, буднично-мирское, держится на мудром осознании сущего. Слово в поэме насквозь иронично и гуманно, так что усмешка бодрит и врачует, предписывая человеку жить там, где много смерти. Оно направлено против мысли об апокалипсисе, извечно бытовавшей в миру. Тут оно – вопреки всему – не совмещается даже с евангелистом Иоанном, утверждавшим, что придет время, когда все будет другое: и небо, и люди, и воды земные. Твардовскому хочется оставить все в нетронутом и непогрешимом виде – и землю, и небо, и жизнь мирскую, в которой если бы и случались войны людские, то они непременно тут же и заканчивались бы мирным исходом в бане, причем на поверженной стороне. А это возможно, если сохранится мир, а в мире – Россия, Россия православная и народная. За Россию и за народ сражается боец поэта в трагическом ХХ веке.
Поэмы Твардовского («Страна Муравия», «Дом у дороги», «Василий Теркин», «За далью – даль», «Теркин на том свете») явились свидетельством истории, эпохи, в которой поэт жил и творил и которой служил правед- ным словом вещего пиита. Его произведения несли в себе «правду сущую» о России народной и ее грандиозных свершениях в подвижническом столетии.
Поэма «Василий Теркин» (1945) запечатлела русский подвиг во Второй мировой войне. Советский солдат (а в то время он был таковым) предстал в ней легендарным творцом истории, спасителем своей земли, а также избавителем Европы и всего мира от чумы западного фашизма. Теркин Твардовского тогда был олицетворением большой народной России, которая называлась Советским Союзом и которая утверждала собою на планете явление неслыханное и долгожданное, будто судьбоносно воссозданное по воле Высшего Духа.
Он, русский солдат Василий Теркин, родившийся и выросший на крестьянской смоленской стороне, будто и был сотворен там для войны и для выполнения всеобъемлющей спасительной миссии, исстари и навечно предписанной ему отеческой землею, родным народом быть воином-бойцом и, будучи воином-солдатом, сражаться и побеждать. Поэма и начинается естественно и просто, без заведомо принужденного намеренья, с авторского желания сразу заговорить о существе войны:
На вой не, в пыли походной,
В летний зной и в холода
Лучше нет простой, природной
Из колодца, из пруда,
Из трубы водопроводной,
Из копытного следа,
Из реки, какой угодно, Из ручья, из-подо льда, – Лучше нет воды холодной, Лишь вода была б – вода.
Поэма написана в стилевом ключе, очень близком к фольклорному. В ней ни одной главы и ни одного стиха, который бы не был выстроен на теплой и дружеской солдатской шутке, на веселой анекдотической истории, на остром и предельно точном бытовом словце. Письмо свободно исполнено обыденными воинскими рассуждениями о том о сем, из чего обыкновенно складывается на войне каждодневное говорение, столь необходимое во фронтовом обиходе. Забавное поучение, свободно перемешанное с затейливой выдумкой, характерно дорисовывает духовно-нравственное бытование боевого солдата.
Твардовский нередко прибегает в своем сказывании к потешной, исконно народной по духу, воинской сценке. Именно она образно оживляет в главе «Переправа» внутреннее состояние бойца, крепко продрогшего в ледяной воде, но с успехом добравшегося до речного берега с донесением. В основу изложения здесь положено распространенное во фронтовой среде просторечно-усмешливое выражение, близкое по складу к анекдотическому:
Растирали, растирали…
Вдруг он молвит как во сне:
– Доктор, доктор, а нельзя ли Изнутри погреться мне, Чтоб не все на кожу тратить?
К краткому изустному рассказу с остроумной концовкой очень близок также вызов «Тулы» по телефону в разгар боя, с должной долей забавной иронии переданный в главе «Теркин ранен». В ней, как и в предыдущей главе, в поведении и бойца, и его командира через внешний жест и мимику с безошибочной точностью вырисовываются скрытые внутри психологические тонкости душевного состояния героев:
Подмигнув бойцам украдкой:
Мол, у нас да не пойдет, –
Дунул в трубку для порядку,
Командиру подает.
Командиру все в привычку, –
Голос в горсточку, как спичку,
Трубку книзу, лег бочком, Чтоб поземкой не задуло. Все в порядке.
– Тула, Тула,
Помогите огоньком…
В главе «Бой в болоте» Теркин с таким же неизбывным умением иронического говорения передразнивает усмешливое желание немцев запеть на русском языке. В первые недели войны им, как известно, несказанно везло; они довольно успешно продвигались по советской земле, намереваясь стремительно-быстро добраться до русской столицы. Тогда непрошеные гости, полагаясь на слабость противной стороны и высокомерно питая нескрываемую веру в скорую победу, даже тешили себя пением известных советских песен, издевательски перестраивая на свой лад их интонационно-ритмический строй. Но прошли месяцы, и состояние чужеземцев на войне незадачливо изменилось, так что теперь пришла очередь «певца» Теркина. Привычно подбадривая в бою своих товарищей, он, со скрытой в себе склонностью к актерскому представлению, усмешливо окарикатуривает былые «напевы» варваров-пришельцев, попавших в крайне трудное и плачевное положение:
Тут состроил Теркин рожу
И привстал, держась за пень,
И запел весьма похоже,
Как бы немец сам запел.
До того тянул он криво, И смотрел при этом он Так чванливо, так тоскливо, Так чудно, – печенки вон!
Песня имела на войне особенную популярность. Русские пели ее на привале и в окопе; она неусыпно сопровождала солдата в его нелегких сраженьях, крепила в нем мирские надежды и веру в победу, неуклонно поддерживала боевой дух в бою. Теркин сызмальства чувствовал в себе неодолимую любовь к песне; она была его верной спутницей в солдатском быту, служила ему источником радости и вдохновенья; с нею соединялись на войне все его заботы и думы. Песня будила в бойце ненависть к врагу, вдохновляла его на ратный подвиг, неусыпно связывала мысли с родимым домом и с теми, кого воин оставил в нем переживать и тревожиться за его и свою жизнь.
И поэт, неотступно следуя за собственным героем, отдавал должное и песне, и тому, какое чувство вызывала она в нем. Песня в стихе Твардовского, уподобляясь человеку, перенимает его свойства, становится эмоционально-персонифицированным, одушевленным существом, выполнявшим очень важные и полезно-необходимые функции в солдатской среде. Поэт, подменяя явление отвлеченное конкретно-бытовым и явленным, создает в главе «Гармонь» ее портретно-олицетворенную зарисовку:
А гармонь зовет куда-то, Далеко, легко ведет… Нет, какой вы все, ребята, Удивительный народ.
Хоть бы что ребятам этим, С места – в воду и в огонь.
Все, что может быть на свете, Хоть бы что – гудит гармонь. Выговаривает чисто, До души доносит звук.
В таком письме музыка, воспроизведенная гармонистом, превращается в его монолог:
Я забылся на минутку, Заигрался на ходу.
И давайте я на шутку Это все переведу.
Русский извечно и бережно несет в себе песню. Родственно-близкая простому мирскому говорению, но еще более прекрасная и выразительная, глубокая, гибкая и послушная, песня способна передавать и мысли его, и тончайшие оттенки душевных движений. В главе «О герое» Теркину в самом явлении песни видится характерная особенность его родной, смоленской стороны, где даже дед, в бороде «лихой и сивой», извлекал из обыкновенного рожка такие эстетически содержательные мелодии, что жителя края стали полушутливо именовать не иначе, как «рожком». Песня явственно выражает создавшего ее человека; она, по сути, его образ, правдивый и в точности верный. Так уж повелось, что русский всегда чувствует себя во власти музыки; он невольно живет ее жизнью.
Не кичусь родным я краем, Но пройди весь белый свет — Кто в рожок тебе сыграет Так, как наш смоленский дед. Заведет, задует сивая, Лихая борода.
Ты куда, моя красивая, Куда ведешь, куда… И ведет, поет, заяривает — Ладно, что без слов, Со слезою выговаривает Радость и любовь.
Твардовский, раскрывая властную силу музыки и песни, соотносит ее с психологическими чертами своих героев, столь глубокими и яркими, что они и в самом деле обогащают и возвышают русскую натуру, делают ее образ по-житейски обаятельным, естественночарующим. Он, русский, от природы и в природе талантлив; в его способности достойно и полно выражать себя в искусстве напевного слова и, органично соединяясь с ним в миру, выходить на поле брани духовнонесокрушимой мощью.
Песню невозможно оторвать от родной земли, увести от реальной жизни, тем бо- лее обратить ее против бытования в исконно привычной среде. Рожденная жизнью, она неуклонно тяготеет к почве, на которой возникла, и неизменно возвращается к бытию человека, в устах которого зазвучала впервые.
Оттого-то именно жизнь кондовая, коренная есть и всегда была истинным смыслом песни, неиссякаемым источником ее фронтового существования. Поэт, порою переносясь в своем воображении на несколько десятилетий вперед и там, листая героические страницы былых сражений, пытается во всем существе оценить происшедшее, которое кажется легендой.
И солдат мой поседелый,
Коль останется живой,
Вспомнит: то-то было дело,
Как сражались под Москвой…
И с печалью горделивой
Он начнет в кругу девчат
Свой рассказ неторопливый,
Если слушать захотят.
Заметьте, как сражались бойцы, о том не говорится, но упоминается о битве у ворот Москвы. И образного умолчания оказывается в поэтическом стихе достаточно, поскольку само по себе событие представляется воистину невероятным: дойти-добраться с боями до столицы противника – и бесславно отступить, покатиться назад, чтобы затем, уже в своей столице, позорно сдаться.
Однако в другой главе, 17-й, «Бой в болоте», тема русской, народной по сути, героики раскрыта во всей своей колоритной и явственной детализации:
И противник по болотам, По траншеям торфяным Садит вновь из минометов — Что ты хочешь делай с ним… Перемокшая пехота
В полный смак клянет болото, Но мечтает о другом — Хоть бы смерть, да на сухом.
Русский с нескрываемой усмешливой иронией, простодушно и честно судит и свою работу в бою:
Заключить теперь нельзя ли,
Что, мол, горе не беда,
Что ребята встали, взяли
Деревушку без труда?
Что с удачей постоянной
Теркин подвиг совершил:
Русской ложкой деревянной
Восемь фрицев уложил.
Русский, по Твардовскому, – богатырь и как будто не богатырь, а, впрочем, если и смахивает на богатыря, то разве что тем, что не уступает ему ни в силе, ни в духе своем. Так что он, выходит, даже способен и сравниться с ним, и если это так, тогда то, что есть в русском, быть может, даже больше и сильнее, чем в богатыре из сказки. В главе «От автора» поэт пишет:
Богатырь не тот, что в сказке — Беззаботный великан,
А в походной запояске,
Человек простой закваски, Что в бою не чужд опаски, Коль не пьян. А он не пьян… То серьезный, то потешный, Нипочем, что дождь, что снег, – В бой, вперед, в огонь кромешный Он идет, святой и грешный, Русский чудо-человек.
Обычно поэт придерживается четырехстрочной строфы, но, если надо что-либо выделить в мысли, он дополняет ее пятым стихом; а вот тут, в приведенной выше портретно-психологической характеристике русского солдата, строфа разрастается на целых шесть стихов с тремя идущими одна за другою созвучными женскими рифмами: запояске, «закваски», «опаски». И ни в одном слове, ни на йоту не допущено ничего ненужного и лишнего; все по смыслу истинно, все подобрано до крайности точно и к месту – даже в бытовом неологизме «запояске».
У сказочного героя Теркин взял немногое: его могучий физический облик, добродушно-веселое расположение к себе и к другому, удалое молодечество в бою. Однако это лишь своеобразная канва, по которой певец искусно и реалистически одухотворенно вышивает оригинальные узоры своего образного письма, сохраняя традиционноизустную традицию.
В той же 24-й главе («От автора») поэт корректирует сказочного героя штрихами, сугубо реалистически подобранными им для сопоставления с собственным героем. В физическом облике Теркина отсутствует всякая необычность, которая присуща фольклорному персонажу; герой Твардовского, в отличие от него, вынослив и бесстрашен, но вместе с тем и осторожно расчетлив в боевых схватках.
Человек простой закваски, Что в бою не чужд опаски… В муках тверд и в горе горд, Теркин жив и весел, черт.
На сказочно-песенной основе построена глава «Смерть и воин». Мотив спора жизни и смерти, собственно, не нов в искусстве слова. В схожем плане его вкрапливали еще в древности сказители бытовых поучительных притч («Солдат и смерть», «Аника-воин»). Этот же мотив был положен также в основание лубка ХVIII века, где, скажем, бравый молодец Аника храбро и дерзко схватился с явлением смерти, представшей перед ним в виде скелета с острой косою, однако при первом взмахе «косы» кичливый воин валится с коня и падает замертво на землю. На другой лубочной картинке изображен некий Иона, не устоявший перед соблазном присвоить деньги своего умершего товарища, которые тот просил отдать в церковь на помин души; но скупец не увидел, как смерть нежданно и с косою наведалась в его богатый дом во время пира. Уже на исходе XIX века на мотиве столкновения бытия и небытия была написана А. М. Горьким известная сказка-новелла «Девушка и смерть».
Аналогичная сказочная ситуация перешла в песенную культуру. В частности, в 1831 году унтер-офицер Невского пехотного полка Н. Ф. Веревкин ввел ее в свое стихотворение «Под ракитою зеленой». Тогда же оно было опубликовано в газете «Русский инвалид» и вскоре в переработанном виде проникло в народный обиход. В казачьем миру текст песни стал прообразом «жестокого» романса под названием «Черный ворон», который бытует и по сей день. В нем повествуется о погибающем казаке, который просит ворона сообщить родным о его смерти.
Что ты вьешься, черный ворон, Над моею головой?..
Ты добычи не дождешься, Я солдат еще живой.
Твардовский, перерабатывая романсный текст, существенно снизил образ смерти, сделав его более реальным и живым. Певец заменил вещего романтического ворона явлением «косой старухи» в седых космах; она и склоняется над раненым Теркиным, собираясь забрать его в свои тенета.
Однако солдат не сдается, отказывается следовать за худым и безобразным существом. Так в поэтическом строе главы «Смерть и воин» сошлись в «смертельной» схватке две изначальные силы, едва ли не с момента творения противоборствующие в людском миру.
Глава 21-я стала смысловым стержневым центром поэмы «про бойца». Здесь в условной «беседе» одной и другой стороны раскрылась мысль-идея существа войны, ее исконных земных граней. Старуха-смерть безжизненно воздействует на раненого своим леденящим дыханием и мертвым словом:
– Ну, солдат, пойдем со мной.
Я теперь твоя подруга,
Недалеко провожу,
Белой вьюгой, белой вьюгой, Вьюгой след запорошу.
Солдат отвечает ей обыденно и просто: лежать на снегу ему, конечно, и холодно, и неуютно; тем не менее, он вовсе не хочет расставаться со своим дыханием, что теплится и связывает его с жизнью: «Я не звал тебя, Косая, // Я солдат еще живой». Косая, с присущей ей ролью заведомой хозяйки, отнюдь не собирается отступать; она продолжает омертвело настаивать на своем, придирчиво и властно указывая солдату на верный признак безнадежно исходящего из него духа: на щеках – снежок, «сухой снежок», уже не тает. Выходит, он, солдат, «живой, да не жилец». Она даже готова приободрить противника, открывая ему завесу собственной юдоли: «Моего не бойся мрака. Ночь, поверь, не хуже дня». Вот тут и прошелестели слова, сразу введшие ее в некое замешательство:
А чего тебе, однако,
Нужно лично от меня?
Костлявая вся напряглась, снисходительно хрустнула в жидких костях своих новым резоном: нужен-де лишь «знак согласья, что устал беречь ты жизнь, что о мертвом молишь часе». И тут же до худого уха ее донеслось в ответ прежнее, но еще более естественное и решительное:
– Не хочу.
Мне пожить как раз охота,
Я и не жил-то еще.
Косая, поскольку она Косая, выпутывается, однако, из зашедшего в тупик поединка, прибегая к последним своим черным доводам: холод люто сгущается, и в поле «завелась поземка», так что, если смерти на время даже и отойти, отодвинуться от раненого, никто из живых к нему не придет, его вряд ли отыщут в снежной завирухе.
Философия русского бытия, неиссякаемого приятия ее всеми солдатами российской стороны закрепляется идеей всемирского единения в последней сцене поединка. В ней сказалось все существо всечеловеческой общности, что в недавнем прошлом называлась коллективностью, а теперь именуется всеобщей бескорыстной и дружеской спаянностью в русском миру. Поэт образно раскрыл здесь неиссякаемые родники воинского товарищества на войне, и главное – всеобщее, всесол-датское приятие духа его на уровне сердца и мысли.
Теркин победил вследствие своей неразрывной спайки с солдатским сотовариществом: его, умирающего на снегу, подобрали друзья-товарищи по оружию. Костлявая с позором отступила, скорбно заметив, сколь велика и неистребима в духе русского воля к жизни даже, казалось бы, в истекающие минуты его бытия. Тут в каждом вздохе солдата ощущаются неуступчивые связи с жизнью, столь победно необходимые в боях и сражениях за родную землю. Не случайно глава названа не «Теркин и смерть», а более обобщенно – «Смерть и воин», что более глубоко и точно указывает на этико-смысловые особенности ее содержания, прямо соотнесенные с жизненными принципами в советском народном обществе.
И подумала Смерть впервые, глядя со стороны: «До чего они, живые, меж собой свои – дружны, нехотя даешь отсрочку. Потому и с одиночкой сладить надобно суметь». И, вздохнув, отстала смерть.
Человек готовился к доброй жизни и подвигу в боях за нее. В этом и состоит идея бессмертного подвига в ХХ веке бытия земного.
В поэме Твардовского хореический строй стиха и интимные чувства героя введены в план общественно-бытовых переживаний. Это сообщает ему особую тональность эпического лиризма, что нередко сближается с образно-психологическими напевами песенного жанра. Таково интонационноритмическое описание душевной тоски героя по своей деревенской стороне, по оставшейся в одиночестве родной матери в главе 15-й, «Генерал».
У речушки – неглубокий
Родниковый ручеек
Шевелит травой- осокой
У его разутых ног.
И курлычет с тихой ласкою,
Моет камушки на дне,
И выходит не то сказка,
Не то песенка во сне.
Я на речке ноги вымою.
Куда, реченька, течешь?
В сторону мою родимую, Может, где-нибудь свернешь.
Там печаль свою великую,
Что без края и конца,
Над тобой, над речкою, выплакать, Может, выйдет мать бойца.
Над тобой, над малой речкою,
Над водой, чей путь далек,
Послыхать бы хоть словечко ей, Хоть одно, что цел сынок.
Теркин в этой главе награждается боевым орденом и недельным отпуском на родину; только побывка его откладывается до конца будущего наступления Красной армии.
Внешнее, событийное совмещается в эпическом стихе поэта с внутреннепсихологическим. В этом образном сплетении, воссоздающем очертания прифронтовой действительности, многогранно выписана структура повествования в виде монолога, реплики, шутливой обмолвки, диалога, мысли вслух, лирического отступления автора. Сам по себе стих Твардовского очень близок к просторечно-бытовому говорению с привычной народной склонностью к мудрообыденному осмыслению сущего, выражаемого в округлой, афористической точности слова.
Избранные аспекты содержания служат средством изображения военной реальности изнутри, через внутренний мир героя. В поэтической новелле 11-й, «Поединок», по отрывочным репликам Теркина, по его монологу, обращенному к фашисту, можно проследить весь ход не только жестокой схватки с немцем, но и душевного состояния в ней нашего героя:
Двое топчутся по кругу,
Словно пара на кругу,
И глядят в глаза друг другу: Зверю – зверь, и враг – врагу.
Ты не знал мою натуру,
А натура – первый сорт.
В клочья шкуру – Теркин чуру
Не попросит. Вот где черт!
Злость и боль, забрав в кулак, Незаряженной гранатой
Теркин немца – с левой – шмяк!
Немец охнул и обмяк.
Теркин – ворот нараспашку,
Теркин сел, глотает снег,
Смотрит грустно, дышит тяжко —
Поработал человек…
Заслуги генерала в 15-й главе переданы как бы в задушевной беседе с солдатским товариществом:
Ты, обжегшись кашей, плакал,
Ты под стол ходил пешком.
Он тогда уж был воякой…
В главе «О любви» Твардовский, раздумчиво меняя «собеседника», обращается с темой главного чувства на войне к солдатам, злым женам, к незамужним девушкам, к танкистам, артиллеристам и еще раз к девушкам. Форма диалога использована в главах «Наступление» и «Смерть и воин». В последней новелле Теркин прибегает к форме невинного вопроса, что позволяет ему держать свою противницу на приличном расстоянии от себя: «А чего тебе, однако, нужно лично от меня?» Тут даже ощущения замерзающего солдата передаются тихими репликами, исходящими от «лютого мороза»; сама форма поэтической реплики создает иллюзию собеседования:
Я пути такие знаю,
Что поди поймай меня.
В структуру поэмы прочно входила форма сказа… Жутко простодушен русский, жутковато доверчивый и бесхитростный; жутко наивный, нехитрый, невинный, простосердечный…
Поэма написана в форме авторского монолога, структурно разбавленного штрихами реплики, шутливой обмолвки, диалога, мысли вслух, лирического отступления. В основание ее положен жанровый принцип стилизации рассказчика, представляющего свою социально-общественную, то бишь, народную, среду. Его поэтическое говорение выдает в нем певца-сказителя, стремящегося создать своей речью впечатление непосредственного рассказа-импровизации, в которой поэт совпадает и не совпадает с рассказчиком, но на себя переносит его мироощущение. Поэма принимает очертания сказа. Такое повествование помогает автору создать иллюзию самостоятельности героя-рассказчика.
Форма эпического сказа, построенная в основном как монологическое повествование, включает характерные особенности разговорно-бытового письма. В реалистическом сказе Твардовского воссоздаются – через стиль изложения – типические черты социально-бытовой, историко-национальной и индивидуальной характеристики героя и всей обыденной фронтовой среды, к которой он существом своим принадлежит.
Поэма Твардовского исполнена историколегендарным содержанием. В ней, при всем ее былевом очертании, ведется «сказывание» о текущем времени, о том, что происходит в данный момент на войне. Поэт писал свои новеллы с натуры, по следам идущего боя, битвы, сражения. Оттого эпос, рожденный в его стихе, предельно сближался с реальностью, с духом и бытом солдат, какой развертывался в окопе, блиндаже, ровике, на широком поле.
Певец все видел, все слышал; ему в качестве военного корреспондента приходилось нередко подолгу жить на передовых позициях, стрелять из автомата и тут же записывать в блокноте вдохновеньем сотворенные стихи. И теперь в науке о Твардовском ходит история, как его однажды чуть не убило случайно залетевшей миной. Это было летом 42-го, в разгар битвы за Харьков.
Поэт с очередным заданием летописца прилетел в белгородские места, посидел в окопе, походил по ровику, а затем его внезапно осенило, и он спешно оставил беседу с солдатами и расположился неподалеку на пригорке, поросшем мятликом и овсяницей. Твардовский записывал новеллу «Перед боем». Так он просидел на холмике около часа, пока стихи в нем не иссякли. Тогда поэт поднялся, расправил плечи и неторопливо пошел назад, к окопам, и когда он удалился от пригорка на шестьдесят-семьдесят метров, туда упала невесть откуда залетевшая мина. Задержись поэт еще на минуту-другую там, где он только что строчил карандашом, и никакого «Теркина» в русской литературе не было бы… Впереди была долгая война и столь же трудная и долгая работа над эпической поэмой о главном русском подвиге в ХХ веке.
Поэма составилась из тридцати относительно самостоятельных новелл в стихах, объединенных общей мыслью-идеей об истинной сущности войны на земле и о существе в ней русского, бравшего прежде и взявшего на себя теперь все ее боли и все тяготы, взявшего и вынесшего их на своих плечах с упорством и верой в победу. Произведение завершается мирскою сценой «В бане». Оно и естественно: после тяжкого труда, какою является грязная от крови и пота война, надлежит по-русски помыться в бане… Процедура эта осуществляется русским солдатом на чужой земле, в чужой, поверженной им столице, чтобы возвратиться на родину чистым душою и телом.
Новеллы, составившие содержание поэмы, написаны в соответствии с нормами классической традиции, о чем писал в свое время Пушкин при чтении драмы Кальдерона «Жизнь есть сон». Строение пьесы отметилось гармоническим равновесием всех ее частей: завязкой, развитием действия, кульминацией и развязкой. Нечто подобное сложилось и в своде новелл, из которых выросла структура сюжета поэмы о Теркине у Твардовского.
Поэма исторически достоверна в самой основе. Твардовский воспроизвел реальность и в образе главного героя, и в содержании темы войны. Русский солдат в ней проделал долгий и тяжкий путь борьбы, пройдя «от западной гра- ницы до своей родной столицы, от своей родной столицы вплоть до западной границы и от западной границы плоть до вражеской столицы».
Поэт-сказитель, следуя народнопоэтической традиции, сохраняет в своем письме типовую форму сказа, но разве что в интонации, заставляя себя говорить обобщенно и осмысленно лишь в этой, ритмической части, тогда как в другой, сугубо событийной, он сыплет мелочно, всеми подробностями и штрихами, какие только свойственны изображаемому явлению. Совмещение интонационно-сказываемого и детальнособытийного в едином потоке авторского говорения и создавало специфику твардовского письма. То, о чем рассказывается, выходит зримо и явственно, но все это представляется со свободной долей тонально-былевой импровизации; словом, певец, повествуя достоверно о реальнобытовом, что есть в действительности, прикидывается сказителем и как сказитель сказывает, а не описывает по-художнически.
Манера поэта сказывать о трагико-драматических явлениях войны, скрепляя сказание с существом русского солдата, у которого, кстати, есть конкретное имя и типовая фамилия, располагает к чему-то точному при обрисовке и самого действа, и психологического портрета героя. Однако все это у него образно обобщено, знаковосимволически предложено читателю, свободно допускает в повествование компоненты авторской импровизации.
Поэма выражает мировоззрение народа в эпоху военного лихолетья, его отношение к действительности, его борьбу за независимость, его мечты о будущем. Содержание глав меняется, как меняется порождающая ее действительность. Произведение имеет ярко выраженный национальный характер.
Исключительно велика его художественная значимость. Его национальная специфика сказывается в языке, в бытовых подробностях, в характере пейзажа, в том, что в ней рисуется уклад русской жизни, преимущественно крестьянской. Идейная направленность поэмы, подлинный гуманизм ее содержания соотносятся с секретом ее жизнеспособности.
До сих пор не прослежено движение мысли-идеи от главы к главе. В поэме предстала вся война, обрушивавшаяся на русскую землю. «Как от западной границы…». Однако характерные извивы этого движения можно выделить. В начальной главе «От автора» поэт говорит о важности на войне воды, правды… Поэт высмеивает варварские пороки пришельцев, рисует духовное превосходство русского над своим противником. В русском живет неистребимая вера в конечную победу над врагом; в нем совместились все чаяния, все ожидания и надежды простых людей России.
Поэт представляет душу народа; а мирская душа тем объемнее и шире, чем размашистее пространство, на котором она возросла. Русскому суждено было вобрать в себя всю ширь, всю необъятность холмов и далей, где он – по воле земли и неба – расселился. Собственно, он потому и расселился так размашисто и раздольно, что был от природы наделен необъятностью и ширью в своей душе. Оттого-то ему одному, и никому другому, удалось пройти-прошагать по трем континентам и мирно, соборно закрепиться на них.
Список литературы Сюжетно-стилевое и смысловое своеобразие поэмы А. Твардовского «Василий Теркин»
- Неженец Н. И. "Ржаные апостолы" русской поэзии двадцатого века. Москва: Квадрига. 2020. 360 с.
- Твардовский А. Т. Василий Теркин. Книга про бойца. Академия наук СССР. Литературные памятники. Москва: Наука. 1976. 531 с.
- Твардовский А. Т., Гефтер Ю. М. XX век. Голограммы поэта и историка. Москва: Новый хронограф. 2005. 496 с.