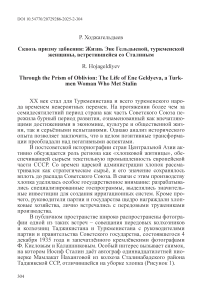Сквозь призму забвения: Жизнь Эне Гельдыевой, туркменской женщины, встретившейся со Сталиным
Автор: Ходжагельдыев Р.
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: События и судьбы
Статья в выпуске: 3 (85), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию биографии Эне Гельдыевой (1906–1993), туркменской общественной деятельницы XX века, чьё имя оказалось недостаточно представлено в современной историографии. Работа анализирует ключевые этапы её жизни, рассматривая их как отражение масштабных социальных и политических трансформаций в Туркменистане в советский период, в частности, процесса раскрепощения женщин Востока и их вовлечения в государственное строительство. Также подробно описывается путь Гельдыевой от тяжёлого детства в малообеспеченной семье и насильственного брака к активной общественной и политической деятельности. Особое внимание уделяется её участию в совещании передовых колхозников в Кремле 4 декабря 1935 года, где она проявила смелость, открыто озвучив проблемы сельского населения перед высшим руководством СССР, включая И. Сталина. Подчёркивается оперативная реакция властей на её выступление, выразившаяся в оказании Фарабскому району необходимой материально-технической помощи. Анализ фотои видеодокументов позволил скорректировать распространённую историческую неточность. Статья призвана восстановить имя Эне Гельдыевой в исторической памяти, предоставив комплексный анализ её биографии как элемента истории Туркменистана.
Эне Гельдыева, Туркменистан, советская история, раскрепощение женщин, женское движение, Кремлёвское совещание 1935 года
Короткий адрес: https://sciup.org/149149223
IDR: 149149223 | DOI: 10.54770/20729286-2025-2-304
Текст научной статьи Сквозь призму забвения: Жизнь Эне Гельдыевой, туркменской женщины, встретившейся со Сталиным
R. Hojageldiyev
Through the Prism of Oblivion: The Life of Ene Geldyeva, a Turkmen Woman Who Met Stalin
XX век стал для Туркменистана и всего туркменского народа временем невероятных перемен. На протяжении более чем за семидесятилетний период страна как часть Советского Союза пережила бурный период развития, ознаменованный как впечатляющими достижениями в экономике, культуре и общественной жизни, так и серьёзными испытаниями. Однако анализ исторического опыта позволяет заключить, что в целом позитивные трансформации преобладали над негативными аспектами.
В постсоветской историографии стран Центральной Азии активно обсуждается роль региона как «хлопковой житницы», обеспечивавшей сырьем текстильную промышленность европейской части СССР. Со времен царской администрации хлопок рассматривался как стратегическое сырьё, и его значение сохранялось вплоть до распада Советского Союза. В связи с этим производству хлопка уделялась особое государственное внимание: разрабатывались специализированные госпрограммы, выделялись значительные инвестиции для создания ирригационных систем. Кроме прочего, руководители партии и государства щедро награждали хлопковые хозяйства, лично встречались с передовыми тружениками производства.
В публичном пространстве широко распространены фотографии одной из таких встреч – совещания передовых колхозников и колхозниц Таджикистана и Туркменистана с руководителями партии и правительства Советского государства, состоявшегося 4 декабря 1935 года и запечатлённого кремлёвскими фотографами Ф. Кисловым и Калашниковым. Особый интерес вызывает снимок, на котором Иосиф Сталин даёт автограф одиннадцатилетней пионерке Мамлакат Наханговой из колхоза Сталинабадского района Таджикской ССР, отличившейся на уборке хлопка (Рисунок 1).
Рисунок 1. И.В. Сталин даёт автограф участнице совещания передовиков хлопковых полей Э. Гельдыевой, председателю Фарабского райисполкома Туркменистана (справа), слева стоит М. Нахангова, одиннадцатилетняя пионерка из Таджикистана
Имя М. Наханговой, участницы стахановского движения, самой юной и первой среди пионеров кавалера высшего ордена СССР – Ордена Ленина стало широко известно по Советскому Союзу. В её честь слагали поэмы (Мирзо Турсун-заде, «Солнце страны») и создавались скульптуры. Однако другая, менее известная героиня этой исторической фотографии, Эне Гельдыева, оказалось незаслуженно забытой.
Эне Гельдыева была в числе первых туркменок-активисток, внёсших большой вклад процесс раскрепощения женщин Туркменистана. Тем не менее, несмотря на её насыщенную биографию и весьма солидный послужной список, имя этой женщины практически не упоминается в научной литературе, посвященной данной проблематике. Академик Биби Пальванова, крупный исследователь женского движения, автор нескольких научных работ об эмансипации женщин1, только в одной монографии использовала цитату Э. Гельдыевой о трудовых подвигах женщин2. Многие другие авторы вообще не сочли нужным включить её имя в своих работах3. Аналогичная ситуация наблюдается и в нескольких коллективных монографиях4.
При описании биографии Э. Гельдыевой в настоящей статье мы опирались на разнообразные источники. В первую очередь, это были газетные материалы, среди которых особенно ценным оказался очерк А. Караваева5. Предполагается, что Караваев будучи в хороших отношениях с героиней своего рассказа, написал его со слов самой Эне, что делает этот источник уникальным. Дополнительные сведения были получены из Туркмено-советской энциклопедии6 и книги по истории Сакарского района7, где Эне Гельдыева родилась, работала и жила большую часть своей жизни. Часть сведений удалось получить от людей, лично знавших Эне в последние годы её жизни. Важно отметить, что информация о ранних годах Гель-дыевой иногда расходилась в разных источниках. Для достижения максимальной достоверности, изложенные сведения были проанализированы с использованием сравнительного метода исторических исследований.
В 1920-е годы в СССР активно проводилась государственная политика, направленная на переосмысление роли женщин в обществе. Целью этой политики было освобождение женщин от части обязанностей, предоставление им доступа к образованию и равных возможностей в трудовой деятельности. При этом «женщины Востока», включая жительниц Туркменистана, рассматривались как наиболее угнетённая категория населения, чья жизнь на протяжении веков регламентировалась нормами исламского шариата и обычного права (адата). Кампания «освобождения» женщин в разной степени повлияло на судьбы многих представительниц женского пола, сыграв заметную роль в их вовлечении в общественную жизнь и ликвидации пережитков прошлого.
Эти коренные перемены оказали прямое влияние и на жизнь Эне Гельдыевой. Она родилась 1906 году в селе Карамахмыт Сакар-ского района, входившего тогда в состав Чарджоуского бекства Бухарского эмирата (ныне Лебапский велаят, Туркменистан)8. Следует отметить, что в ряде историографических и архивных источников её имя фигурирует как «Энеджан». Данный вариант включает суффикс «джан», который в туркменском языке традиционно используется для придания имени ласкательного оттенка. Нередко туркмены сокращают имена, используя только их первую часть, что, вероятно, и произошло в данном случае.
Детство Эне Гельдыевой прошло в малообеспеченной семье. Её отец, Овезгельды был дехканином и зарабатывал на жизнь тя- жёлым трудом на полях, стараясь обеспечить свою семью. В начале прошлого века социально-экономическое положение крестьян в Бухарском эмирате ухудшилось из-за неурожаев и многочисленных налогов. Эти обстоятельства часто приводили к безвыходным ситуациям. Тяжелое материальное положение вынудило главу семейства бросить свои родные места и переезжать в Байрамали, Мервский уезд Закаспийской области Туркестанского края Российской империи, в 200-х километров к западу от Сакара, где проживало много его соплеменников. Там он батрачил у местного бая по имени Ход-жаныяз, который предоставил ему заем.
Вскоре бай потребовал возврата долга, угрожая расправой. Осознав, невозможность получить деньги от батрака, он вынудил Овезгельды выдать свою 9-летнюю дочь Эне замуж за 55 летнего Гутлы Язмурада из села Узынгатла, что, по сути, являлось продажей дочери. Эне стала третьей женой в семье9.
По версии Караваева, Гутлы бай похитил девочку, когда она купалась в арыке со сверстниками. Хотя её отец, Овезгельды, был осведомлён о намерениях бая, он, по всей видимости, не ожидал столь прямого акта похищения. Узнав о произошедшем, Овезгельды и мать Эне, Айныяз немедленно отправились к баю и провели всю ночь ожидая встречи с ним. На следующий день Гутлы бай выехал из дома верхом на коне, и когда Айныяз бросилась к нему под коня, умоляя вернуть дочь, он ударил её ногой в грудь. И по Караваеву, Эне стала не третьей, а четвертой женой Гутлы бая10.
Однако, при анализе этого фрагмента, важно учитывать, что образ Гутлы бая в произведении Караваева, вероятно, значительно политизирован, а его жестокость – преувеличена. Это вполне соответствует советской идеологии классовой борьбы, в рамках которой образы баев традиционно представлялись исключительно негативными и воплощали собой абсолютное зло. Данное предположение подтверждается и явными нестыковками в самом очерке: например, несмотря на столь жестокое угнетение, Эне будучи замужем за баем, демонстрирует удивительную свободу действий, спокойно встречается с активистами комсомола и других общественных организаций, а также активно участвует в их мероприятиях. Более того, противоречивым выглядит и образ отца Эне: от изначального сожаления и желания освободить дочь он, согласно очерку, переходит на сторону Гутлы бая, становясь пособником в мучениях собственной дочери и жены. Эти внутренние противоречия указывают на возможное влияние идеологических установок на формирование персонажей и событий в описании Караваева.
Однажды в дом Эне под видом продавщицы красок пришла женщина-пропагандистка, по имени Огульныяз. Шепотом и с боль- шой осторожностью она рассказала, что на самом деле работает на заводе и может помочь Эне сбежать от мужа11. По версии Караваева, Огульныяз была давней подругой Эне, и пришла навестить её, а также оказать помощь как член комсомола. Несмотря на то, что первые попытки Огульныяз оказались безуспешными, этот контакт стал поворотным для Эне. Она узнала о Советской власти, о правах женщин, которые ею гарантировались, и начала активно участвовать в так называемом «кружке женщин» в своём селе12.
Однажды, после жестокого избиения со стороны мужа, Эне сбежала к арыку и горько плакала. Там её встретила Маша – русская женщина, оказавшаяся женой начальника местной милиции. Именно Маша познакомила Эне с Александрой Ковалёвой, руководительницей женского отдела районного комитета партии. Ковалёва, используя своё влияние и возможности, помогла Эне сбежать от мужа в город Мары и начать новую жизнь.
В начале 1920-х годов развернулась активная пропаганда, направленная против тяжелого положения женщин. В городских поселениях создавались специальные учреждения, позднее известные как «Дома дайханок» (Дома крестьянок), предназначенные для размещения женщин и девушек, сбежавших из своих семей или от мужей. Особое внимание уделялось воспитанию и образованию несовершеннолетних девочек-подростков, ставших жертвами насильственного замужества или сбежавших от своих великовозрастных мужей. Через эти «Дома дайханок» прошли тысячи женщин, где они получали приют, помощь и обучались грамоте. В целях политического просвещения проводились и политбеседы13. Впоследствии многие из этих туркменских девочек стали квалифицированными специалистами в различных областях народного хозяйства, просвещения, культуры и искусства, а также активно участвовали в общественно-политической жизни республики.
В Мары Эне посещала курсы ликбеза, проявляя особый интерес к общественной жизни и постепенно вовлекаясь в советское строительство. Общение и знакомство с новыми людьми, обладающими прогрессивными идеями и взглядами на жизнь, способствовали расширению её кругозора появлению желания к самоутверждению. Позднее она вернулась в Чарджоу и активно включилась в работу по раскрепощению женщин.
15 августа 1924 года в присутствии 300 женщин состоялось торжественное заседание 1-й Областной конференции женщин-работниц и домохозяек города Ленинска (название г. Чарджоу в 19241927 гг.). На повестке конференции, помимо обсуждения насущных вопросов, значились и организационные моменты – выборы Президиума, Секретариата и мандатной комиссии. Среди девяти человек, избранных в состав Президиума, наряду с Рахмановой, Чесновой, Шимоновой, Хасановой, Кушматбаевой, Муравьевой, Бурковнико-вой и Асадулаевой, была и Гельдыева14. Примечательно, что в протоколе заседания ее фамилия стоит третьей после Чесновой, что свидетельствует о ее заметной роли в данной конференции.
Благодаря активной поддержке влиятельных фигур своего времени Эне Гельдыева получила прекрасное образование. При содействии начальника Главного политуправления Шепилова и секретаря окружного комитета партии Чары Веллекова, будущего известного общественно-политического деятеля республики, она была направлена в тогдашний Полтарацк (современный Ашхабад). Целью поездки были курсы по подготовке работников из числа женского населения при ЦК Компартии Туркменской ССР.
Эти курсы стали настоящей кузницей женских кадров для республики. Здесь обучались многие женщины, которые впоследствии заняли ключевые позиции в общественной жизни, такие как Г. Алиева, Д. Гандымова, О. Суханова, Б. Мурадова и другие. Успешно завершив обучение в январе 1927 года, Эне Гельдыева следующие три года посвятила работе инструктором Чарджуйского окрисполкома15.
В августе 1929 года её образовательный путь продолжился в Среднеазиатском Коммунистическом университете (далее – САКУ) имени В.И. Ленина при Центральном Исполнительном Комитете Союза ССР. САКУ, по сути, был «высшей среднеазиатской партийной школой», чьей главной задачей являлась подготовка квалифицированных партийных кадров, способных эффективно применять принципы марксизма-ленинизма в социалистическом строительстве. Этот университет с трёхлетним сроком обучения играл ключевую роль в формировании национальных партийных и советских работников для всех среднеазиатских республик. Показательно, что 80% слушателей составляли представители коренных национально-стей16.
1920-1930-е годы стали периодом расцвета САКУ, где получали образование многие видные туркменские деятели, включая женщин. Среди однокурсниц Эне Гельдыевой были туркменки Гынны Гараджаева, Мисгин Алымова, Нурджемал Союнова, с которыми она разделяла тёплые отношения и общую цель – служение своей республике17. В годы учебы, 1930 году она была принята в ряды Коммунистической партии18. Окончив университет в 1932 году, Эне Гельдыева возглавила Среднеазиатский Шёлковый институт. Однако из-за острой нехватки национальных кадров её вскоре направили работать на родину. В 1933-1934 годах она руководила женотделом ЦК КП(б) Туркменистана. Её личный жизненный опыт глубоко повлиял на работу: Эне Гельдыева уделяла особое внимание молодым девушкам и активно участвовала в агитационных кампаниях среди сельского населения, стремясь вовлечь женщин в новую общественную жизнь. Она лично встречалась с женщинами, вдохновляя их своим примером и убеждая в важности активного участия в преобразованиях.
В марте 1934 года она была переведена на должность помощника начальника политсектора МТС по женработе19. Эта должность также не стала долгосрочной. Уже в декабре того же года Эне Гель-дыева заняла пост председателя Фарабского райисполкома, где её заместителем был назначен Фальковский. Этот район находится в Чарджоуском округе, недалеко от Сакарского района, откуда родом была сама Гельдыева. На посту председателя райисполкома она продвигала советские принципы, уделяя особое внимание женскому вопросу. Гельдыева понимала, что вовлечение женщин в общественную жизнь – это не просто директива, а ключ к развитию региона. Аавторитет, личная убежденность и знание местного менталитета позволили ей добиться значительных успехов. В январе 1935 года она стала делегатом V Всетуркменского съезда советов, где была избрана в состав Центрального Исполнительного Комитета респу-блики20.
Кульминационным этапом в общественной и трудовой деятельности Э. Гельдыевой стало её участие в совещании передовых колхозников Таджикистана и Туркменистана с руководством Советского Союза. Мероприятие состоялось 4 декабря 1935 года в Кремле и привлекло внимание высших эшелонов власти, включая И. Сталина, В. Молотова, Л. Кагановича, К. Ворошилова, А. Андреева, В. Чубаря и других значимых политических деятелей того периода.
Делегация из Туркменистана включала 33 представителя, в том числе руководителей республики – Председателя СНК К. Атабаева, председателя ЦИК Н. Айтакова, секретаря ЦК КП(б) Я. Попока, а также передовиков производства, председателей колхозов и рядовых тружеников21. До основного совещания, 1 декабря, туркменскую делегацию принял Народный комиссар лёгкой промышленности СССР И. Любимов. Роль Э. Гельдыевой в этом процессе была значительной, о чём свидетельствует её фотография, опубликованная в газете «Jaşkomunist» («Молодой коммунист») от 18 декабря, где она изображена сидящей рядом с выступающим Любимовым22.
Согласно сообщениям газеты «Правда», совещание 4 декабря было отмечено выражением энтузиазма со стороны колхозников, которые приветствовали руководителей страны возгласами «ура», «Да здравствует товарищ Сталин!» и продолжительными аплодисментами. Среди ключевых докладчиков от Туркменистана, наряду с председателем колхоза «Большевик» Байрам-Алинского района Ага
Юсуп Алиевым, звеньевой колхоза «Добровольный» Сталинского района Гюль Набат, директором Сталинской МТС Силапом Гарры-баевым и звеньевой колхоза «Большевик» Байрам-Алинского района Огуль Гозель Бахбит, в числе первых выступила Э. Гельдыева. Отличительной особенностью выступлений Ага Юсупа Алиева и Гельдыевой стало то, что их полные речи, сопровождаемые фотографиями, были опубликованы в газете «Правда»23. Впоследствии эти материалы были перепечатаны не только в центральных, республиканских и областных изданиях, но и во многих районных газетах по всей стране, что указывает на высокую степень их значимости в официальном дискурсе того времени.
Выступление Э. Гельдыевой характеризуется не только демонстрацией успехов, но и смелостью в освещении существующих проблем. Она начала доклад с описания достижений Фарабского района, подчеркнув при этом ключевую роль женского труда, что коррелировало с озвученной И. Сталиным идеей о «большой силе женщины в колхозе». Гельдыева отметила, что женщины выполняют до трёх четвертей всех работ в районе, включая полевые работы, ковроткачество и шелководство.
Действительно, Фарабский район с силами женщин достиг больших успехов во всех отраслях. 1935 году из 322 звеньевых 223 были женщинами. На примере только одной из них можно судить о производительности труда: Розыгуль Бабыш, бригадир колхоза им. Карла Маркса только за 1935 год лично выработала 447 трудодней. В том году Фарабский район досрочно, 21 октября, выполнил государственный план хлопкозаготовок24.
Важным аспектом выступления Гельдыевой стало акцентирование внимания на ряде проблемных вопросов, несмотря на заявленное изначально намерение затронуть только два. Она выделила три ключевые проблемы:
-
1. Ручные мельницы: Проблема значительных временных затрат женщин на переработку зерна, требующая механизации процесса.
-
2. Хошарные работы: Интенсификация работ по очистке каналов и арыков, выполняемых женщинами в тяжёлых зимних условиях, с запросом на предоставление экскаваторов для механизации. Ссто-ит отметить, что И. Сталин проявил интерес к термину «хошарные работы», что свидетельствует о его неосведомлённости в специфике регионального труда.
-
3. Дефицит лесоматериалов: Проблема проживания населения в устаревших кибитках и мазанках из-за нехватки строительных ма-териалов25.
Выступление Э. Гельдыевой на совещании 1935 года стало не только отчётом об успехах, но и редким примером открытого пред- ставления проблемных аспектов жизни сельского населения перед высшему руководству страны.
Выступление Э. Гельдыевой имело непосредственные и оперативные последствия. Вскоре после завершения кремлёвского совещания и еще до возвращения туркменской делегации на родину, в адрес Фарабского райисполкома был направлен комплекс материально-технических средств. Этот пакет включал два экскаватора, два комплекта мельничного оборудования, одну землечерпалку, две платформы лесоматериалов и один вагон цемента26.
Дальнейшее распределение полученных ресурсов было осуществлено согласно решению исполнительного комитета. Экскаваторы и землечерпалка были переданы в ведение районного отдела водного хозяйства, что явилось прямым ответом на проблему «хо-шарных работ» по очистке ирригационных систем, озвученную Гельдыевой. Оборудование для мельниц было распределено между колхозами имени Фрунзе и Карла Маркса, что должно было облегчить трудоёмкий процесс помола зерна, ранее выполнявшийся вручную. Поставка лесоматериалов и цемента предназначалась для улучшения жилищных условий и строительства, решая проблему устаревших кибиток и мазанок.
После своего доклада Э. Гельдыева, представляя колхозниц Туркменистана, вручила И. Сталину символический подарок – ковёр ручной работы с портретом В.И. Ленина. Этот ковёр был создан известным туркменским художником Бяшимом Нур-Али и соткан его супругой Амансолтан Нур-Али. И. Сталин выразил одобрение, произнеся «Замечательно, очень хорошо», и повторил по-тюркски: «Чох-якши! Чох якши!». В свою очередь И. Сталин предоставил автографы двум участникам данного совещания: М. Наханговой из Таджикистана и Э. Гельдыевой из Туркменистана. В частности, Сталин подписал на обратной стороне фотопортрета: «Товарищу Эне Гельдыевой от И. Сталина за хорошую работу. 4/XII – 35 г.»27 Всем участникам совещания были вручены ценные подарки – патефоны с пластинками и золотые часы28.
Совещание 4 декабря получило широкое освещение в советской прессе. Кремлевские фотографы зафиксировали многочисленные моменты мероприятия, которые впоследствии многократно перепечатывались в различных изданиях. На сегодняшний день на сайте Российского государственного архива кинофотодокументов доступно 40 фотографий с данного совещания29, а также имеется видеохроника события30.
Особое внимание следует уделить распространённой фотографии с совещания, где И. Сталин изображён сидящим и расписывающимся, а за ним, слева, стоит М. Нахангова, а справа – Э. Гельдыева.
Во многих источниках, включая Викисклад, подпись к этой фотографии гласит: «И.В. Сталин даёт автограф участнице совещания передовиков хлопковых полей одиннадцатилетней пионерке из колхоза Сталинабадского района Таджикской ССР Мамлакат Наханго-вой (слева), отличившейся на уборке хлопка».
Однако анализ видеохроники данного события позволяет скорректировать эту атрибуцию. Видеоматериалы показывают, что в момент создания упомянутого снимка И. Сталин подписывал фотографию для Э. Гельдыевой. После получения автографа Гельдыева отошла от вождя. Сцена же, где И. Сталин даёт автограф М. Наханго-вой, происходила отдельно, и в тот момент они находились вдвоём. Таким образом, распространённая подпись является некорректной и требует уточнения.
Значимость встречи в Кремле для Э. Гельдыевой подтверждается воспоминаниями её дальней родственницы, Абадан Джумаму-радовой, учителя средней школы №23 Саятского района Лебапского велаята. По её свидетельству, в 1980-е годы, проживая по соседству с Гельдыевой, она часто слышала её рассказы об этом событии. Примечательно, что Гельдыева хорошо сохранила и иногда, в особых случаях, использовала патефон, полученный в качестве подарка от И. Сталина.
После возвращения из Москвы Э. Гельдыева продолжила свою трудовую деятельность на прежней должности до 1937 года.
Особый интерес представляет информация, полученная от А. Джумамурадовой, которая свидетельствует о повышенной тревожности Гельдыевой. Она характеризовала Гельдыеву как очень подозрительную личность, испытывающую страх преследований, иногда «боявшуюся собственной тени». Эти воспоминания находят частичное подтверждение в доступных документах. В частности, документ от 19 июля 1936 года, циркулирующий в сети интернет, содержит следующее заключение: «Признать, что проверкой, организованной бюро ЦК, заявление т. Гельдыевой т. Сталину и т. Попок о том, что за нею организована слежка со стороны органов НКВД, райкома и т.д. – не подтвердилось ни в какой мере»31. Это отражает общую атмосферу 1930-х годов, эпохи подозрительности и репрессий, характерную для данного исторического периода.
С мая 1937 года Э. Гельдыева перешла на работу в правоохранительные органы. В период с 1937 по 1940 годы она занимала должность помощника прокурора Туркменской ССР, а затем, с 1940 по 1947 годы, работала помощником прокурора Сакарского райо-на32. Последний период её службы пришёлся на годы Великой Отечественной войны, когда её работа приобрела особую значимость. Воспоминания отца Огулбег Овезовой, учителя средней школы №44
города Ашхабада, который работал с Гельдыевой в то время, живо иллюстрируют те непростые годы. Он рассказывал, как они вместе перевозили горючее из города в район. Э. Гельдыева всегда была при оружии, готовясь к возможному нападению. В военное время активизировались как подавленные ранее повстанческие движения, так и обычные грабители, что делало такие поездки крайне рискованными.
Так, во время одной из поездок, появились подозрительные конные фигуры, которые начали их преследовать. Гельдыева несколько раз выстрелила в воздух и направила оружие на незнакомцев. Преследователи ретировались.
Последним местом работы Э. Гельдыевой стал отдел культуры Сакарского района, где она заняла руководящую должность. Здесь она работала с 1947 по 1960 годы, вплоть до выхода на пенсию. До кончины в 1993 году жила как в Ашхабаде, так и в Сакаре.
За значительный вклад в развитие страны Э. Гельдыева была отмечена государственными наградами. Она была удостоена ордена «Знак Почета», ряда медалей и Почетной грамоты Президиума Верховного Совета ТССР. Эти награды стали признанием её многолетней самоотверженной работы и преданности делу, символизируя её заметную роль в истории Туркменистана.
Жизнь Эне Гельдыевой, туркменской женщины, чьё имя оказалось незаслуженно забытым в исторической науке, является ярким и многогранным отражением эпохи преобразований в Туркменистане в XX веке. Её биография, воссозданная на основе разрозненных источников, позволяет по-новому взглянуть на процессы раскрепощения женщин Востока, их активного вовлечения в общественную жизнь и вклад в развитие республики. Родившаяся в бедности и ставшая жертвой насильственного брака, Эне Гельдыева представляет собой наглядный пример того, как советская политика эмансипации открыла путь к образованию, профессиональному росту и общественной деятельности для женщин из традиционных обществ.
Выступление Э. Гельдыевой на кремлёвском совещании 1935 года демонстрирует её смелость и способность артикулировать острые социально-экономические проблемы сельского населения перед высшим руководством. Оперативная и адресная реакция властей подчёркивает действенность такого прямого диалога в условиях централизованного управления. Широкое медийное освещение фигуры Э. Гельдыевой свидетельствует о её символической роли в официальном дискурсе. Анализ фото- и видеодокументов позволил внести коррекцию в распространённые исторические подписи, подтвердив факт предоставления ей автографа И. Сталиным наравне с М. Наханговой, что уточняет историческую атрибуцию.
Таким образом, биография Эне Гельдыевой представляет собой ценный материал для изучения процессов формирования советского общества в Туркменистане, роли женского движения и сложностей адаптации личности к доминирующим идеологическим и политическим реалиям. Её история позволяет более полно восстановить картину прошлого, преодолевая пробелы в историографии.