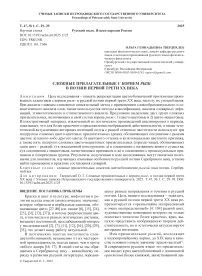Сложные прилагательные с корнем рыж в поэзии первой трети XX века
Автор: Твердохлеб О.Г.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Русский язык. Языки народов России
Статья в выпуске: 1 т.47, 2025 года.
Бесплатный доступ
Цель исследования - описать репрезентации цветообозначений при помощи производных адъективов с корнем рыж- в русской поэзии первой трети ХХ века, частоту их употребления. При анализе главным становится описательный метод с применением словообразовательного и семантического анализа слов; также используются методы классификации, анализа словарных дефиниций, этимологического и статистического анализа. Предложено выделение двух групп сложных прилагательных, включающих в свой состав корень рыж-: 1) цвето-цветовые и 2) цвето-нецветовые. Иллюстративный материал, извлеченный из поэтических произведений анализируемого периода, показывает, что для более красочного представления изображаемой действительности, а также эстетической актуализации авторских интенций поэты с разной степенью частотности используют три подгруппы сложных цвето-цветовых прилагательных (реже), обозначающих соединение с рыжим цветом: а) какого-либо другого цвета; б) цветового оттенка и в) потенциально цветового признака, а также пять подгрупп сложных цвето-нецветовых прилагательных (гораздо чаще), обозначающих один цвет - рыжий: г) в посессивной конструкции; д) в соединении с названием живого существа; е) в соединении с нецветовым, качественным признаком и ж) в соединении с процессуальным признаком и з) переходная группа. Результаты, полученные в ходе исследования, могут оказаться полезными для лингвистов, изучающих языковые особенности русской поэзии Серебряного века, а также найти применение в практике составления словарей.
Сложные прилагательные, адъектив, цветообозначение рыжий, язык поэзии, серебряный век
Короткий адрес: https://sciup.org/147247826
IDR: 147247826 | УДК: 811.161.1'366 | DOI: 10.15393/uchz.art.2025.1125
Текст научной статьи Сложные прилагательные с корнем рыж в поэзии первой трети XX века
ВВЕДЕНИЕ. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Краска и цвет в культуре, мифологии и религии всегда имели символическое значение1, которое «обретали и вербальные единицы, обозначающие цвет» [27: 80] (см. также: [6], [15], [24], [25], [31], [33], [37]), и потому репрезентация цвета, в том числе и в разных поэтических системах, вызывает постоянный, неослабевающий интерес у исследователей [2], [7], [11], [12], [16], [20], [29], [35], что делает нашу работу актуальной.
В поэтических текстах частотность слов-цветообозначений, независимо от их частеречной принадлежности, всегда выше, чем в прозе любого жанра [16: 17]. В своей статье мы обращаемся к Серебряному веку – важнейшему периоду в развитии русской литературы, породив
шему разные направления и течения в русской поэзии. Цель нашего исследования – показать, как в русской поэзии первой трети ХХ века репрезентируется «чрезвычайно экспрессивный и очень неопределенный» [4: 104] рыжий цвет, художественные номинации которого не только помогают читателю более красочно, ярко, выпукло представить изображаемую творцом действительность, но и эстетически актуализируют авторские интенции.
Имя прилагательное рыжий, восходящее к индоевропейскому корню, до XIX века в качестве основного имело значение ‘красно-желтый’2. В современном русском языке это прилагательное входит в ряд цветообозначений с доминантой оранжевый (более книжной, заимствованной лек- семой, ср. апельсинный и пр.) [3], имеет значения: 1. ‘красно-желтый’; ‘с волосами или шерстью такого цвета’; ‘выцветший, ставший красноватобурым’; 2. в знач. сущ. ‘рыжий, цирковой клоун’3 и обладает стилистической спецификой (обусловленной в том числе и этимологическим родством с цветообозначениями рдяный, ржавый, румяный [3], [28]). Употребляется «в самых разных текстах: и в разговорном языке, и в художественной литературе; в различных стилистических контекстах» [4: 105], как цвет «индивидов», «ярких», «привлекающих к себе внимание», положительных и отрицательных «нестандартных, неординарных персонажей» [35: 117-120], как цвет предателей (Каин, Иуда) [21: 210-224] (см. также: [3], [6], [8] и др.).
Настоящее исследование проводилось на материале Национального корпуса русского языка4 (НКРЯ; далее в статье все примеры по этому источнику) в несколько этапов. Поскольку нас интересовали особенности функционирования лексем с корнем рыж - в русской поэзии первой трети ХХ века, то в поэтическом корпусе НКРЯ было закреплено ограничение в «Основных параметрах текста»: дата создания - 1900 - 1930 годы. Затем в пользовательском подкорпусе (объемом 34 652 текста, 3 995 793 словоупотребления) был задан лексико-грамматический поиск: рыж* (где символ * обозначает любую последовательность символов в начале или конце лексемы или словоформы), выявивший значительное количество лексем, в морфемном составе которых есть корень рыж - (725 примеров из 552 текстов, что составило 0,018 % от общего количества слов в выбранном подкорпусе). При анализе было обнаружено несколько словообразовательных типов производных лексем, номинирующих рыжий цвет (подробное описание всех обнаруженных нами типов слов, входящих в словообразовательное гнездо рыжий , дается в другой нашей статье, находящейся в печати), среди которых были выделены сложные адъективные формы, производные от основного наименования рыжего цвета (рыжий ). Затем в пользовательском подкорпусе НКРЯ были произведены запросы по каждому из сложных цветонаименований с корнем рыж -, выявленных в результате обзора научной литературы (напр., в [3], [6], [9], [17], [34], [38: 184-217]) и в материалах диссертаций и словарей5. В итоге предметом конкретного анализа явилось почти 150 поэтических контекстов, включающих в свой состав для выражения идеи рыжего цвета производные имена прилагательные, один из компонентов которых образован от основы прилагательного рыжий.
Русские поэты Серебряного века активно обращались к потенциальным возможностям словообразовательных средств русского языка. Языковой потенциал семантики адъективного цветонаименования рыжий способствует включению в поэтические тексты узуальных и оригинальных сложных имен прилагательных, в составе которых есть корень рыж -.
В данной работе мы, взяв за основу известные в науке ([1], [3], [5], [10], [13], [14], [15], [17] и др.) классификации, предлагаем свою, несколько уточненную и расширенную классификацию обнаруженных нами сложных адъ ективных цветонаименований. В зависимости от лексикограмматических особенностей производящих слов и словосочетаний, для создания цветописи в поэзии первой трети ХХ века используются две группы сложных прилагательных, состоящих из нескольких корней, один из которых корень рыж -:
-
1) цвето-цветовые (25 случаев): желто-рыжий и др.;
-
2) цвето-нецветовые (126 случаев): рыжеволосый и др.
СЛОЖНЫЕ ЦВЕТО-ЦВЕТОВЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ
Среди сложных цвето-цветовых прилагательных выделяются подгруппы лексем, в семантике которых отражается соединение с рыжим цветом:
-
а) какого-либо другого цвета (8 случаев);
-
б) цветового оттенка (8);
-
в) потенциально цветового признака (9).
Соединение рыжего цвета и какого-либо другого цвета
Для более точного изображения смешанной спектральной палитры, разноцветных объектов в поэтических строках используются сложные прилагательные, состоящие из двух цветооснов, номинирующих равноправные цвета, один из которых ‘рыжий’ (здесь и далее приводим по году создания произведения, в котором обнаружена выявленная лексема): желто-рыжий (С. М. Городецкий, 1907); рыже-красный и краснорыжий (3 случая, с обратной последовательностью компонентов: В. А. Комаровский, 1913; Э. Г. Багрицкий, 1915; Д. Бедный, 1919); рыже-золотой (И. А. Бунин, 1915), рыже-бурый (И. Северянин, 1923) и рыжебурый (Г. Н. Петников, 1915-1917); черно-рыжий (В. Л. Корвин-Пиотровский, 1920); рыжесиний (С. Е. Нельдихен, 1920). Между частями таких прилагательных можно вставить сочинительный союз и либо но, то есть сохраняются синтаксические отношения однородных членов предложения. В этих прилагательных, построенных по общеязыковым моделям, с «неопределенным» [19: 169, 171] («переходным» [18: 85], «смешанного типа» [36: 699]) цветообозначе-нием рыжий соединяются традиционно выделяемые в качестве основных (абсолютных, базовых) (напр., в: [5], [6], [15], [32], [33] и др.):
-
а) три хроматических (обозначающих семь цветов радуги) цветообозначения, по цветовой гамме близких рыжему ( красный, желтый ) и далеких ( синий ): А третий - желто-рыжий (С. М. Городецкий. Яга, 1907);
-
б) один (из обычно выделяемых трех: белый, черный, серый) ахроматический цвет ( черный ): В черно-рыжих соболях (В. Л. Корвин-Пиотровский. Пан Юрий, 1920).
Равноправное соположение основного (напр., красного) и неосновного (напр., рыжего) цветов, репрезентированных в прилагательных описываемой подгруппы, обусловливает возможности перестановки в порядке следования компонентов сложного цветообозначения. Это отмечается в контекстах, описывающих разноцветность артефактов ( прутья, трамвай), проявляющуюся в разное время суток (день, ночь). Ср. сложные прилагательные, где компонент, обозначающий рыжий цвет, по отношению к другому компоненту, обозначающему красный цвет, находится и в препозиции, и в постпозиции:
Но в яркий день, когда слепят снега, / На глянце этих прутьев рыже-красных / Стеклянный лед (В. А. Комаровский. «Устало солнце, жегшее спокойно...», 1913); Злой, рыже-красный клёст, взобравшися на елку (Д. Бедный. Центрошишка, 1918); И краснорыжие трамваи, погромыхивая мордами (Э. Г. Багрицкий. Дерибасовская ночью, 1915).
Разноцветность сверхъестественного существа описывается сложным цветонаименовани-ем, образованным с помощью двух стилистически и символически противопоставленных компонентов: (1) цветонаименования рыжий , характеризующегося негативной коннотацией и символизирующего демоническое6, и (2) цве-тонаименования золотой (производное от имени предмета, послужившего эталоном цвета, и обозначающее неосновной цвет, приближающийся к основному цвету на основании своей «психологической важности» [5]), характеризующегося положительной коннотацией и символизирующего солнечную энергию, огонь и славу, а также (в христианстве) божественное небесное величие, вечность и благодать, высочайшую ценность7. Ср. сложный адъектив в поэтическом контексте высокого стиля: Ты крылья рыже-золотые / В священном трепете простер (И. А. Бунин. Шестикрылый, 1915).
Для большей экспрессии, акцентирования цветопередачи у узуального и поэтому менее выразительного адъектива поэты прибегают к использованию графических средств. Согласно правилам русской орфографии, сложные имена прилагательные, образованные из двух основ и обозначающие оттенки цветов, должны писаться через дефис, однако в некоторых поэтических контекстах встречаются и слитные написания, согласно написанию сложных имен прилагательных, образованных из сочетаний слов, по своему значению подчиненных одно другому (§§ 80–81)8:
И в шубе рыжебурой ствол (Г. Н. Петников. Лесное былье, 1917); Вспыхнула серая бумага, рыжесиняя кайма поползла по ней (С. Е. Нельдихен. Праздник, 1920); И краснорыжие трамваи, погромыхивая мордами (Э. Г. Багрицкий. Дерибасовская ночью, 1915).
Проверка в НКРЯ9 года издания стихотворений, из которых приведены два последних контекста, показала, что источником являлись тек-сты10, публикация которых была осуществлена после выхода свода Правил орфографии11. Таким образом, в поэзии появляются индивидуальноавторские новации.
Соединение основного рыжего цвета с его оттенками
Поэты начала ХХ века используют сложные адъективы, состоящие из двух цветооснов, номинирующих основной цвет – рыжий и различные его оттенки: ярко-рыжий (3 случая: А. И. Тиняков, 1910; Б. К. Семенов, 1925; В. М. Саянов, 1927); темно-рыжий (3 случая: М. И. Цветаева, 1914; Н. А. Оцуп, 1922–1923; Саша Черный, 1923); бледно-рыжий (1 случай: И. А. Бунин, 1916), а также могуче-рыжий (В. В. Хлебников, 1912). Среди приведенных адъективов большинство цветонаименований являются кодифицированными (общеупотребительными, отмечаемыми и словарями, и в научных работах12). В качестве опорного компонента рыжий соединяется со словообразовательным формантом ( ярко-, темно- и бледно-). Такие сложные адъективы употреблены для более точной идентификации (интенсивность, яркость, умеренность) рыжего цвета при описании волос человека, меха животных, части растений, артефакта:
Прячут в кочки и кусты / Ярко -рыжие хвосты (Б. К. Семенов. Купальская ночь, 1925); И пламя листьев ярко-рыжих (А. И. Тиняков. Август, 1910); В ярко-рыжих / Сапогах (В. М. Саянов. Народная легенда о шахтере Гурии, 1910); Темно-рыжий комочек глядит на прохожих людей / Это белка... (Саша Черный. «На берлинском балконе.», 1923); Темно-рыжая коса (Н. А. Оцуп. Дон Жуан, 1922-1923); Бешеных волос металл / Темно-рыжий (М. И. Цветаева. «Уж часы - кото- рый час?», 1914). Есть более сложный пример: Бледнорыжее золото кос (И. А. Бунин. Цирцея, 1916).
Включение окказионального компонента создает более яркий, с большей интенсивно -стью рыжего цвета поэтический образ: И водопад волос могуче - рыжий (В. В. Хлебников. Шаман и Венера, 1912).
Окказиональное соединение рыжего цвета с потенциально цветовым признаком
Несмотря на наличие описанных выше сложных лексем - обозначений рыжего, в поэзии описываемого периода наблюдается поиск нетипичных ассоциативных (и потому привлекающих особое внимание) оттеночных характеристик этого цвета: рыже-огненный и огненно-рыжий (2 случая, с обратной последовательностью компонентов: М. А. Волошин, 1900; Т. Л. Щепки-на-Куперник, 1922); грязно-рыжий (2 случая: А. А. Блок, 1904; Н. С. Гумилев, 1921); дымнорыжий (П. П. Потемкин, 1906); солнечно-рыжий (М. А. Волошин, 1910); пыльно-рыжий (Т. Вечор-ка, 1915); рыжесуглинковый (М. П. Герасимов, 1922); лимонно-рыжий (С. М. Городецкий, 1925).
Многогранность поэтического ощущения рыжего цвета создается в строках на основе разного рода индивидуально-авторских ассоциаций, раскрывающих скрытые смыслы и выполняющих эстетическую функцию. В качестве одного из компонентов сложного прилагательного поэты используют основу отсубстантивного относительного прилагательного, являющегося синтаксическим дериватом мотивирующего существительного и тождественного ему по значению [23: 97]. Лексико-грамматическая характеристика такого дополнительного компонента с имплицитной отсылкой к предмету / явлению с характерным (традиционно закрепленным в быту, мифах, культуре) цветом обусловливает появление негативной коннотации ( грязь, пыль, дым, суглинок) либо положительной (солнце). Обнаруживаем характеристику одежды, (метафорически) природного явления, растений, земли:
Грязно-рыжее пальто, /Развевающийся локон / - Всё закатом залито (А. А. Блок. «Город в красные пределы.», 1904); ...приют /В грязно-рыжих твоих и горячих волнах (Н. С. Гумилев. Красное море, 1921); Я нарву тебе цветов, / Черных роз и повилики, / Дымно - рыжих огоньков (П. П. Потемкин. Дьявол, 1906); И рыжесуглинковые косы (М. П. Герасимов. Таинство посева, 1922).
Потенциальный носитель цветовыражения может добавлять и сравнительно-конкретизи-рующее значение (‘рыжий, как солнце’, ‘рыжий, как огонь’), напр., при поэтической характеристи ке пищи и волос: Дети солнечно-рыжего мёда (М. А. Волошин. «Дети солнечно-рыжего мёда», 1910); ...сраспущенными волосами, огненно-рыжими (Т. Л. Щепкина-Куперник. Сон зимней ночи, 1922). Однако при неожиданной (уникальной) перестановке элементов потенциальное сравнение (*огненный, как.) устраняется: Заплелись уступы гор / В рыже-огненный узор... (М. А. Волошин. Акрополь, 1900).
Для акцентирования внимания читателя на обоих признаках, репрезентированных в сложном слове, используется графический перенос второй части сложного адъектива с одной строки на другую (анжамбеман): На холмистом теле его сбивалась в паклю пыльно- /рыжая шерсть (Т. Вечорка. «Верблюд лежал на мостовой...», 1915).
СЛОЖНЫЕ ЦВЕТО-НЕЦВЕТОВЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ
Среди обнаруженных в поэзии описываемого периода сложных цвето-нецветовых прилагательных выделяются подгруппы лексем, в которых рыжий цвет представлен:
-
а) в посессивной конструкции (119 случаев): рыжебородый и др.
-
б) в соединении с названием живого существа (1): рыжеконный ;
-
в) в соединении с нецветовым, качественным признаком (1): плоско-ры жий ;
-
г) в соединении с процессуальным признаком (4): рыжелипкий и др.
Также отмечается конструкция, в которой совмещаются признаки прилагательных из перечисленных а) и г) подгрупп (1): пылающе-рыжеволосый .
Обозначение рыжего в посессивной конструкции
Среди сложных цветонаименований в поэзии первой трети ХХ века обнаруживаем такие весьма продуктивные лексические средства вербализации цвета, как посессивные сложные прилагательные [26], [30], называющие (в первом компоненте) рыжий цвет и (во втором компоненте) части тела: рыжебородый (91 пример; употребляется в произведениях 6 авторов: Г. В. Иванов, 1912; Ю. Н. Верховский, 1917; М. А. Волошин, 1924; А. А. Прокофьев, 1928; О. Э. Мандельштам, 1930, а также 86 случаев в одном и том же произведении: К. Ф. Жаков, 1916); рыжеволосый (12 примеров, 10 авторов: С. М. Городецкий, 1906; В. В. Маяковский, 1913; В. Я. Брюсов, 1917; С. А. Есенин, 1916, 1917, дважды; М. И. Цветаева, 1917; К. К. Вагинов, 1919-1922; Г. В. Адамович, 1920; Н. С. Гумилев, 1920; Д. И. Кленовский,
1922, дважды; С. Я. Парнок, 1926); рыжеголовый (2 примера; 2 автора: В. Л. Корвин-Пиотровский, 1922; П. Н. Васильев, 1929); рыжегривый (2 примера; 2 автора: А. А. Жаров, 1925; Э. Г. Багрицкий, 1928); рыжекудрый (7 примеров; 6 авторов: А. К. Лозина-Лозинский, 1912; Г. В. Иванов, 1913-1914; М. И. Цветаева, 1914 , 1916, дважды; И. Г. Эренбург, 1920; Э. Г. Багрицкий, 1922; Н. А. Оцуп, 1922-1923); рыжекосмый (1 контекст: В. И. Иванов, 1905) ; рыжекосый (1 контекст: А. Б. Мариенгоф, 1925); рыжеокий (1 контекст: Л. Н. Мартынов, 1921); рыжеперый (1 контекст: М. А. Тарловский, 1929), а также: космато-рыжий и косматорыжий (2 случая, в разной орфографии: В. Я. Брюсов, 1900; В. В. Хлебников, 1911).
Самыми многочисленными посессивными сложными прилагательными являются лексемы рыжеволосый (12 примеров, использованных в 12 поэтических контекстах), рыжекудрый (7; 7) и рыжебородый (90; 5). Наиболее частотной по употреблению в разных поэтических произведениях (12) и разными авторами (10) среди сложных прилагательных как в описываемой группе, так и среди всех представленных в нашей картотеке сложных адъективных цве-тонаименований с корнем рыж- является лексема рыжеволосый . Хотя лексема рыжебородый в нашей картотеке и представлена 90 примерами, но употреблены они всего 6 авторами, причем в абсолютном большинстве (86 случаев) в одинаковых и однотипных сочетаниях (с номинациями главного действующего персонажа: князь, Оксой, Яур, князь) сквозными повторами в одной поэме: Оксой наш рыжебородый / <.> /Яур, князь рыжебородый / <.> / Яур, князь рыжебородый . (К. Ф. Жаков. Биармия, 1916). Цвето-наименования образованы на базе субстантивно-атрибутивных словосочетаний с помощью интерфикса - е -, где исходный субстантив (во втором опорном компоненте) называет как неотчуждаемую принадлежность часть тела живого организма (человека и / или животного). Авторы связывают рыжий цвет преимущественно с волосяным / меховым / перьевым покровом ( борода, волосы, грива, кудри, космы, коса, перья ):
щенят, / Что рыжекосая таскала мне подруга (А. Б. Мариенгоф. «Смотри, смотри, как расфуфырилась заря...», 1925); В хоровод рыжекосмый соплелись Ореады (В. И. Иванов. «Двух Дев небесных я видел страны.», 1905); Гриф распластан рыжеперый (М. А. Тарловский. Гриф, 1929)
или же с верхней частью тела человека / животного (голова), покрытой (в норме) волосами / гривой, номинация которой вводится в сложный адъектив путем метонимического переноса наименования части на целое:
Единично соединение описываемого цвета с органом зрения человека, репрезентированного соматизмом ( око ), принадлежность которого высокому стилю придает особенную выразительность неожиданному сложению с цветонаимено-ванием рыжий : Рыжеокая девушка (Л. Н. Мартынов. Алла, 1921).
Данные нашей картотеки свидетельствуют, что разные поэты используют в своем творчестве не только описываемые посессивные конструкции, но и исходные субстантивно-атрибутивные словосочетания, построенные по модели: «предлог c + соматическое существительное в форме творительного падежа + прилагательное рыжий »13. Находим согласование имени прилагательного с именем существительным и в единственном числе ( с рыжей бородой, головой, гривой, косой ), ср, напр., обнаруженные нами соответствия: мужчина с рыжей бородкой (А. Белый. Панихида, 1906) « Рыжебородый крестьянин (Г. В. Иванов. Из окна, 1912). Другие примеры:
ты, с бородою рыжей (Д. И. Кленовский. Тритон, 1922); Громадного кентавра лик / Рыжебородый , грубый, старый (Ю. Н. Верховский. Нимфа, 1917); Рыжебородый <.> Идет Распутин (М. А. Волошин. Россия, 1924); У нее отец рыжебородый (А. А. Прокофьев. Сватовство, 1928); еще соответствия: .другие <.> С гривой рыжей. (К. Д. Бальмонт. Верховные кони, 1918) « Львам рыжегривым (Э. Г. Багрицкий. Песня пьющих солнц, 1928); Эй, рыжегривый . (А. А. Жаров. Воскресник, 1925);
и во множественном числе ( с рыжими волосами, кудрями, космами, очами, перьями ), ср. следующие соотносительные контексты: .с <.> волосами, огненно-рыжими (Т. Л. Щепкина-Ку-перник. Сон зимней ночи, 1922) ^ Рыжеволосый внучонок (С. А. Есенин. «Снег, словно мед ноздреватый.», 1917).
Еще соответствие: ..тигрицы - с глазами рыжими (А. А. Баркова. Тигрица, 1923) ^ Рыжеокая девушка (Л. Н. Мартынов. Алла, 1921).
Сложные цветообозначения могут создаваться и с обратным расположением исходных компонентов, один из которых является относительным отсубстантивным прилагательным с суффиксом -ат- (косматый). Это не только имплицирует отсылку к данной номинации, но и актуализирует семантику подобия [22]. Ср. орфографические варианты (дефисное и слитное написание) сложных прилагательных, употребленные двумя разными поэтами для метафорической оценочно-цветовой характеристики животных и одежды:
жди моржей космато-рыжих (В. Я. Брюсов. Царю северного полюса, 1900); в плащах косматорыжих (В. В. Хлебников. «Как чей-то меч железным звуком…», 1911).
Посессивные сложные прилагательные с корнем рыж- используются в поэтических сочетаниях с несколькими тематическими группами имен существительных. Наиболее частотны такие прилагательные в сочетаниях с названиями людей, характеризующихся по родственным, социальным, национальным отношениям ( внучонок, отец, жена, крестьянин, сардары и др.):
Рыжеволосый внучонок (С. А. Есенин. «Снег, словно мед ноздреватый.», 1917); ..отец рыжебородый (А. А. Прокофьев. Сватовство, 1928); Рыжекудрая жена (н. А. Оцуп. Дон Жуан, 1922-192з); ...Что рыжекосая таскала мне подруга (А. Б. Мариенгоф. «Смотри, смотри, как расфуфырилась заря^», 1925); ...друг мой / <.> / с тобой одной, / Рыжеволосой, белоснежной (Н. С. Гумилев. «Нет, ничего не изменилось…», 1920); Рыжебородый крестьянин (Г. В. Иванов. Из окна, 1912); Цирк <.> / Сонм рыжекудрых королев (М. И. Цветаева. Чародей, 1914); Ты рыжебородых сардаров / Терпела (О. Э. Мандельштам. Армения, 1930), в том числе с номинациями конкретных личностей, обозначенных именами собственными, среди которых дважды используются названия исторического лица (Самозванец и (Григорий) Распутин) и имя Елена (в связи с античной мифологией и изображением цирковой картинки):
...рыжеволосый Самозванец (М. И. Цветаева. Москве, 1917); Рыжебородый , <.> /Идет Распутин (М. А. Волошин. Россия, 1924); Глядела на Приамовы стада / Рыжеволосая Елена (Г. В. Адамович. «Когда.», 1920); В нашем цирке / Рыжекудрая Елена (Г. В. Иванов. Путешествующие гимнасты, 1913–1914);
а также с лирическим «Я»: ..рыжеволосая , / Вся в дыму я... (С. Я. Парнок. «Папироса за папиросой…», 1916). Добавим сюда сочетания с названиями сверхъестественных существ (бог, фавн, черт и др.):
Но, как бог рыжеволосый , / Солнце встало! (В. Я. Брюсов. Косцы в «Сфере огня», 1917); И пение наяд рыжеволосых (Д. И. Кленовский. «Неизреченна радость бытия.», 1922); Рыжеволосого <.> /Явидел фавна (Д. И. Кленовский. Ваза, 1922); Из пещер гиганты -сони / Рыжекудрые встают (А. К. Лозина-Лозинский. Лапа черта, 1912); Рыжекудрый <.> / Он предстал (Э. Г. Багрицкий. Сказание о море, матросах и Летучем Голландце, 1922), в том числе с номинацией их совокупности ( хоровод ): В хоровод ры-жекосмый соплелись Ореады (В. И. Иванов. «Двух Дев небесных я видел…», 1905).
Реже находим сочетания с названиями природных явлений / объектов (соотнесенных с реалией «небо»: луна, солнце, заря и др.):
..идет луна - / жена моя. / Моя любовница рыжеволосая (В. В. Маяковский. Несколько слов о моей жене, 1913); Рыжеволосое солнце руки к тебе я подъемлю (К. К. Вагинов. «Рыжеволосое солнце руки к тебе я подъ-емлю.», 1919-1922); Умри певец на груди зари рыжекудрой (И. Г. Эренбург. «Секите сердца златогрудые!..», 1920); в том числе с очень выразительной лексемой озорь : С рыжекудрым , розовым, / Развеселым озорем (М. И. Цветаева. «На крыльцо выхожу – слушаю…», 1916).
Единичны сочетания с зоонимом (номинацией домашнего животного, птицы), с соматизмом (номинацией части тела человека или сверхъестественного существа) и названием одежды (человека):
Гриф распластан рыжеперый (М. А. Тарловский. Гриф, 1929); И треплет ветер под косынкой / Рыжеволосую косу (С. А. Есенин. «Опять раскинулся узорно.», 1916); Пусть топчет гибнущее тело - / Тебя - рыжеголовый конь (В. Л. Корвин-Пиотровский. «Песок и соль. В густых озерах.», 1922); Громадного кентавра лик / Рыжебородый . (Ю. Н. Верховский. «Кентавров бешеных стада…», 1917), ср. также яркий метафорический образ: А ты, шептавший у порога, / Замкнись в рыжеволосый плащ (С. М. Городецкий. «Иду к земле в ночное лоно…», 1906).