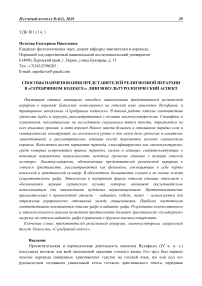Способы наименования представителей религиозной иерархии в "серебрянном кодексе": лингвокультурологический аспект
Автор: Петкова Екатерина Николовна
Журнал: Евразийский гуманитарный журнал @evrazgum-journal
Рубрика: Общее языкознание
Статья в выпуске: 4-1, 2019 года.
Бесплатный доступ
Настоящая статья посвящена способам наименования представителей религиозной иерархии в переводе Евангелий, выполненным на готский язык епископом Вульфилой, и традиционно именуемым «Серебряным кодексом». В данной работе готские соответствия греческим ἱερεύς и ἀρχιερεύς рассматриваются с позиции лингвокультурологии. Специфика и ограничения, накладываемые на исследование сакральным типом текста, отражается на всех языковых уровнях, и хотя перевод Нового завета буквален в отношении порядка слов и синтаксических конструкций, на лексическом уровне в нём низка доля греческих и семитских заимствований, а рассматриваемые единицы всегда передаются исконно германскими корнями. Выделяется шесть вариантов перевода, классифицируемых как лингвокультуремы, среди которых встречаются прямые переводы, кальки и единицы, свидетельствующие о попытках переводчика переосмыслить исходные греческие единицы с позиции готской культуры. Лингвокультуремы, обозначающие представителей религиозной иерархии в готском христианстве, рассматриваются как феномены, совмещающие в себе черты языческой и христианской культур. В абсолютном большинстве случаев в их основе лежит существительное gudja. Этимология и внутренняя форма готской единицы отсылает к обозначениям жрецов германского культа, которые начинают последовательно использоваться для наименования иудейских первосвященников. Противопоставление прилагательных в превосходной степени - auhumists, reikists, maists - используются для отражения иерархических отношений между священниками. Наиболее частотными соответствиями оказываются готские gudja и auhumists gudja. Результаты количественного и этимологического анализа позволяют предположить большую христианскую «культурную» нагрузку на готское auhumists gudja в сравнении с другими лингвокультуремами.
Представителей религиозной иерархии, лингвокультурема, сакральный текст, евангелия, "серебряный кодекс"
Короткий адрес: https://sciup.org/147229853
IDR: 147229853 | УДК: 811.114.
Текст научной статьи Способы наименования представителей религиозной иерархии в "серебрянном кодексе": лингвокультурологический аспект
Просветительская и переводческая деятельность епископа Вульфилы (IV в. н. э.) послужила истоком для всей письменной традиции готского языка. Его труд был первым опытом перевода священных христианских текстов на готский язык, им или под его руководством создавался уникальный стиль готского христианского текста, передавая миропонимание христианства средствами готского языка и воссоздавая элементы христианской культуры на почве готского языка и готского язычества. Несмотря на то, что этот перевод Нового завета довольно буквален, особенно в отношении порядка слов и синтаксических конструкций, исследователи отмечают низкую долю заимствований из греческого и семитского языков (28 единиц в сравнении с 64 единицами, встречающимися в латинской Vulgata Clementina) и скрупулёзный подход к подбору слов [Мецгер, 2004; Ганина, 2001]. Благодаря этому факту готская Библия, ставшая одним из факторов повышения престижа готов среди других германских племён, служит достаточно надёжным источником знаний о самих готах.
Существенные шаги в данном исследовании были впервые предприняты в 2013 г. в выпускной квалификационной работе Булычевой Майи Сергеевны, выпускницы Пермского государственного национального исследовательского университета.
Основная часть
При исследовании готского перевода Библии особый интерес могут представлять способы языковой репрезентации иудеохристианских культурных феноменов, они могут служить средством для реконструкции особенностей готского христианства и собственно готской культуры путём этимологического анализа готских лексических единиц. При чем, в случае с готами можно говорить о культуре народа в целом, без подразделения на классы, ведь как отмечает И. В. Зиньковская, «в археологических культурах, достоверно связанных с ранними этапами готского этногенеза (вельбарской в Польше и черняховской на Украине), довольно слабо прослеживается как раз наличие готской элиты даже в сравнении с другими германскими племенами» [Зиньковская, 2012]
«Взаимодействие языка, выступающего как транслятор культурной информации, и культуры – исторической памяти народа» (как определяет объект лингвокультурологии Е. О. Опарина) становится объектом и данной статьи, а её предметом – «единицы языка, которые приобрели символическое, эталонное, образно-метафорическое значение в культуре и которые обобщают результат деятельности человеческого сознания - архитипического и прототипического, закреплённые в мифах, легендах, ритуалах, обрядах, фольклорных и религиозных дискурасах и т. п.» [Опарина, 1999].
В качестве единицы исследования данной работы выбрана лингвокультурема -основная единица лингвокультурологии (по Е. О. Опраиной) - комплексная межуровневая единица, которая представляет собой диалектическое единство языкового и экстралингвистического содержания, то есть представляет собой единство лингвистической формы знака и его культурной составляющей [Елисеева, 2013; Опарина, 1999]. Лингвокультурема тесно связана с понятием внутренней формы слова, которая выражает национальную специфику слова и отражает реалии культуры. «Внутренняя форма, кроме фактического единства образа, даёт ещё знание этого единства; она есть не образ предмета, а образ образа, то есть представление» [Потебня, 2012].
Структура лингвокультуремы сложнее структуры языковых единиц: она аккумулирует в себе собственно языковое представление и внеязыковую среду (ситуацию или реалию), она легко вычленяется и анализируется лингвистическими методами. Лексическая единица сопровождается «культурным ореолом», при отсутствии которого невозможно проникнуть в смысл текста как выражения культурного феномена. Процесс «окультуривания» языковых единиц ведёт в направлении от значения, «угадывания» - к знанию и включению знака-предмета в сеть культурных ассоциаций, свойственных той или иной нации.
При переводе культурноспецифические составляющие сначала истолковываются в рамках основных понятий языка, а потом сами эти толкования переводятся на другой язык. Однако такие переводы не могут полностью отразить естественный язык. Существующие пределы переводимости, объяснимые уникальным характером каждого отдельного языка, накладывают отпечаток в первую очередь на перевод культурноспецифических единиц. Единицы, несущие в себе культурную информацию уникальны в каждом отдельно взятом языке, и в силу своей природы - несопоставимы. Тем больше оснований утверждать, что осуществлённые переводы несут в себе следы исходной культуры, как в силу ограничений, накладываемых языком перевода, так и вследствие отличий принимающей культуры.
Готский переводчик не мог полностью отразить весь набор культурных составляющих оригинала и был вынужден вносить культурные составляющие своей лингвокультуры. Это позволяет нам анализировать культурные составляющие готской лингвокультуры через перевод. Результирующий текст перевода должен нести в себе отпечаток готской культуры. Использование заимствований и калек и вписывание существующих лексических единиц в принципиально иной культурный контекст приводит к смешению разных культур. При этом иудеохристианская культура, элементы которой в первую очередь представлены в переводимом тексте, является своеобразной «надкультурой» по отношению к прочим, которые воспринимают её вместе с христианской религией и присущими ей сакральными смыслами.
Категория сакрального, будучи фундаментальной категорией феноменологии религии, находит своё отражение и в лингвокультурологических исследованиях, где разрабатывается понятие сакрального (религиозного) текста и сам сакральный текст рассматривается как репрезентация наивной картины мира [Лебедев, 2001; Хухуни и др., 2019].
В переводоведении принято выделять сакральный текст как отдельный тип текста. Сакральный текст репрезентует онтологическую реальность, отличную от профанной, и характеризуется определённым набором языковых средств, составляющих «партитуру сакрального текста». Возможны два способа его перевода: как сакрального текста, то есть с сохранением сакральных смыслов, или как литературно-художественного, профанного текста, где сакральные смыслы могут разрушаться на уровне ритмики и строфики [Лебедев, 2001].
Без сомнения, текст Евангелий «Серебряного кодекса» является переводом сакральным, так как сакральные смыслы сохраняются на всех его уровнях. В первую очередь на лексическом уровне: наименования обрядов, праздников, религиозной утвари, построек, представителей религиозной иерархии. Как отмечает Р. А. Иванова, они представляют собой ядро религиозного текста [Иванова, 2009].
В Евангелиях «Серебрянного кодекса» встречается 54 случая наименования представителей религиозной иерархии, отражающих греческие ἱερεύς «священник» и ἀρχιερεύς «первосвященник». В некоторых случаях они объединены описанием одного эпизода. Ниже представлено распределение готских наименований по их соответствию греческому варианту и появлению в Евангелиях (Таблица).
Для существующих в греческом тексте ἱερεύς и ἀρχιερεύς самыми частотными соответствиями становятся готские gudja (20) и auhumists gudja (28).
Существительное gudja «священник», n-основное, мужского рода, является производным от guÞ «бог», нерегулярного существительного мужского рода. Этимология guÞ остаётся неясной до сих пор. Г. Кроонен в «Этимологическом словаре общегерманского праязыка» восстанавливает общегерманскую форму * guda - сущ. «бог»: гот. guÞ , д. н. guo , д. а, др. фриз.., OS god , д. в. н. got и указывает на возможность возведения её к праиндоевропейскому * ĝʰu-tó- через ст. -слав. ГОВѢТИ «чтить, преклоняться»< *ĝʰou-eh1- [Kroonen, 2013]. В других случаях, предлагается возводить основу к праиндоевромейскому корню * ĝʰau- «звать, взывать» [Pokorny, 2007]. В любом случае, готское guÞ относится к пласту общегерманской лексики, и является одним из способов обозначения языческих богов, которых почитали германцы до христианизации [Ганина, 2001].
Таблица
Варианты перевода наименований представителей религиозной иерархии в «Серебряном кодексе»
|
Готский |
Греческий |
Матфей |
Иоанн |
Лука |
Марк |
|
gudja |
ἱερεύς |
8:4 |
1:5, 5:14, 6:4, 17:14 |
1:44 2:26 |
|
|
ἀρχιερεύς |
27:1, 27:3, 27:6, 27:12 |
18:3, 18:15, 18:15, 18:16, 18:35 |
9:22 20:1 |
2:26 14:10 |
|
|
auhumists gudja |
ἀρχιερεύς |
27:62 |
7:32, 7:45, 11:47, 12:10 18:10, 18:19 |
3:2, 19:47, 20:19 |
8:31, 11:18 11:27, 14:43 14:47, 14:53 14:53, 14:54 14:55, 14:60 14:61, 14:63 14:66, 15:1 15:3, 15:10 15:11, 15:31 |
|
ufargudja |
ἀρχιερεύς |
10:33 |
|||
|
maists gudja |
ἀρχιερεύς |
18:24, 18:26, 19:6 |
|||
|
reikists gudja |
ἀρχιερεύς |
18:22 |
|||
|
auhumists weiha |
ἀρχιερεύς |
18:13 |
Как отмечает Н. А. Ганина, «единственным отступлением от правила регулярной передачи греч. θεὸς гот. guÞ (м. р.) является употребление а-основного существительного guÞ в среднем роде. Происходит это, когда греч. θεὸς употребляется во множественном числе» для обозначения богов языческих. О важной роли данного корня в готской лингвокультуре можно судить в том числе и по его словообразовательному потенциалу. Посредством основы guda- в «Серебряном кодексе» выражаются понятия «благочестие» и «непочтение» там, где в греческом не привлекается основа θεο-. Н. А. Ганина, пытаясь объяснить причину выбора переводчиком этого корня для соответствия греческому, считает, что к моменту создания готского перевода внутренняя форма гот. guda- - «тот к кому взывают» - стёрлась, но сама форма со сменой рода и числа использовалась подобно эпитету в устной жреческой традиции, а потому стал возможен подобный перенос [Ганина, 2001].
Традиционно производным считается gudja - «жрец, человек, служащий божеству или богу». Такая трактовка может показаться непротиворечивой. Мутационный словообразовательный суффикс -j- восходит к праиндоевропейской дейктической частице *eį/*įo/*į , которая изначально маркировала ближний дейксис и в дальнейшем -одушевлённость в широком смысле, активность. У готских существительных с основой на -n- семантика активности выражалась самим экспонентом -n- , который накладывался на морфологическую структуру с -j- . Сочетание двух экспонентов было в определённой степени тавтологичным [Котин, 2017]. Семантика активности, исполнителя действия, в сущестивтельных образованных от других существительных ярко прослеживается, например, в готских fiskja «рыбак», kasja «гончар», swiglja «трубач». Однако указание на пространственный, ближний дейксис сохраняется, например, в baurgja «горожанин», ingardja «находящийся в доме». Поэтому трактовать значение gudja можно и как «человек, находящийся рядом с божеством, связанный с божеством». Как и guÞ, оно относится к пласту общегерманской лексики и использовалось для обозначения жрецов языческих богов. Н. А. Ганина рассматривает guÞ и gudja как равноправные образования от общегерманского *goða- (при и. е. * ĝʰau- ) и отмечает, что gudja соответствует руническому gudija, gode, kuÞi , древнеисландскому goði «жрец», gyðja «жрица». Родовой жрец, называемый годи в скандинавской традиции, выбирался из представителей родовой знати и нёс не только жреческую роль, содержал капище в порядке, совершал жертвоприношения, но и обеспечивал порядок в своей местности [Ганина, 2001], а занимал высокое положение в общине, о чём также свидетельствуют регулярные корреляции с ἀρχιερεύς.
Прилагательное auhumists встречается во всём доступном готском Новом завете исключительно в превосходной степени. Восстанавливают готскую сравнительную степень auhuma* и реконструируют общегерманскую форму *ujuman-/ufuman , где корень восходит к предлогу *uba «над», а готский h , появляется в результате диссимиляции, вызванной лабиализованным окружением [Kroonen, 2013]. Г. Кроонен также указывает на этимологическую связь корня с готским auhns «печь». Отсюда значение auhumists - «высший, высочайший», а словосочетание auhumists gudja может быть интерпретировано как «человек, самый приближённый к божеству, верховный жрец».
Максимально близким к auhumists gudja из всего синонимического ряда оказывается ufargudja , калька с готского, где приставка наиболее прозрачно отражает общегерманское *uber- «над, наверху» [Kroonen, 2013] и имеет довольно высокий словообразовательный потенциал в готском. Только на материале нового завета встречаются существительные и глаголы различной семантики с приставкой ufar-.
В Евангелии от Иоанна в близких контекстах наряду с auhumists gudja встречаются maists gudja, reiks gudja и auhumists weiha . Прилагательное maists является превосходной степенью от mikils «большой, великий» для которого восстанавливается общегерманское *mekila «большой, великий, многий», непротиворечиво возводимое к общеиндоевропейскому * meĝ (h)-: meĝ (h)- «большой» [Kroonen, 2013]. Отсюда maists gudja - «величайший жрец».
Готское reikists является превосходной степенью от прилагательного reiks, которое в свою очередь является производным от reiks «правитель, царь, властитель, владыка». Кроонен считает, что общегерманский корень *лк -, к которому оно восходит, был заимствован из кельтского *reg- [Kroonen, 2013]. В словаре Покорного находим корреляции с латинским rex , древнеиндийскому raj возводимые к индоевропейскому корню *reg- «правый, справедливый; повелитель» [Pokorny, 2007]. В превосходной степени это прилагательное встречается в тексте кодекса дважды - при наименовании первосвященника Анны и в главе 3 Евангелия от Марка (3:22) при наименовании Сатаны, где соответствует греческому ар/щт:
jah bokarjos þai af Iairusaulwmai qimandans qeþun þatei Baiailzaibul habaiþ, jah þatei in þamma reikistin unhulþono uswairpiþ þaim unhulþom. - А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что Он имеет в Себе веельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя.
Отсюда reikists gudja - «могущественнейший жрец, жрец-владыка».
Существительное weiha с основой на -n-, с семантикой активности, является производным от прилагательного weihs «святой», которое регулярно соответствует двум греческим прилагательным ^8p6Z и oyioZ «священный, святой», а также имеет ряд других корреляций, представляющих большой интерес, но лежащих за пределами данного исследования. Г. Кроонен возводит weihs к общегерманской основе *wiha- сравните древневерхненемецкое: wih [Kroonen, 2013]. В новой редакции словаря Ю. Покорного оно, наряду с лат. victum «жертвенное животное», возводится к и. е. основе ueik-1 со значением «выбирать» [Pokorny, 2007]. Н. А. Ганина отмечает, что общегерманская основа обозначет «священное как таковое», в противопосталении профанному, и кодирует положительный аспект сакральности, концептуальную сферу священного. Исследователь полагает, что термином weiha в готской традиции обозначался один из жрецов ( gudja ), тесно связанный со святилищем *weih- , обосновывая данное предположение наличием в скандинавской традиции понятия «страж святилища», и не считает возможным рассматривать auhumists weiha как кальку с греческого [Ганина, 2001].
В готском тексте прослеживается довольно чёткое разделение в употреблении рассмотренных выше лингвокультурем при описании иудейских первосвященников Анны и Каиафы. Как отмечалось выше, самыми распространёнными способами наименования служителей церковной иерархии в «Серебряном кодексе» являются, ввиду неполной сохранности данного памятника, gudja и auhumists gudja . В Евангелии от Луки (3:2), как и в большинстве других случаев, оба первосвященника называются auhumists gudja : at auhmistam gudjam Annin jah Kajafin , warp waurd gudis at lohannen, Zaxariins sunau, in aupidai - при первосвященниках Анне и Каиафе, был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне.
При этом в 18 главе Евангелия от Иоанна Каиафа именуется maists gudja (18:24) и auhumists weiha (18:13), а Анна - reikists gudja (18:22). Готские синонимы могли встречаться в соседних стихах, однако далее до конца главы эти наименования не появляются. Их употребление ограничено лишь одним эпизодом: после того, как Иисуса схватили по наущению Иуды, его привели к Анне. В этом контексте ярко прослеживается противопоставление статусов Анны и Каиафы. Тесть — «жрец-владыка» в глазах прочих:
iþ þata qiþandin imma, sums andbahte
Этимология reikists и особенности употребления формы, рассмотренные выше, дают основание предположить, что таким образом переводчик попытался отразить самое высокое положение, возможное в обществе, положение человека, обладавшего реальной властью. Значимо и то, что произносятся эти слова слугой, человеком, стоящим гораздо ниже на социальной лестнице. Непротиворечиво определить, было ли это сделано в силу существовавшей у готов иерархии, на данный момент не представляется возможным.
Каиафа, зять Анны, стоит ниже в иерархии и именуется maists gudja «величайший жрец». Второй уникальный способ наименования Каиафы - auhumists weiha - может быть связан с его реальным статусом жреца в храме, «стража святилища», и с периодичностью выполняемой им роли.
Заключение
Полное отсутствие заимствований и разнообразие переводов ἱερεύς и ἀρχιερεύς на готский язык свидетельствует о попытке переводчика переосмыслить иерархию иудейских жрецов с позиции собственной культуры и надстроить христианский смысл на основе знакомого языческого gudja . Эта попытка осуществляется за счёт прилагательных в превосходной степени auhumists, maists, reikists и приставки ufar- , которые в сочетании с gudja последовательно коррелируют с ἀρχιερεύς, акцентируя внимание на высоком статусе жреца. Видится возможным предположить, что ввиду своей прозрачной этимологии gudja в тексте готской Библии остаётся нагруженным языческими смыслами, а «нагрузка» христианских смыслов начинает «падать» на словосочения с прилагательными. Как следствие высокой частотности auhumists gudja , возможно рассматривать данную лингвокультурему как наиболее значимую в ряду наименований представителей религиозной иерархии в «Серебряном кодексе».
Список литературы Способы наименования представителей религиозной иерархии в "серебрянном кодексе": лингвокультурологический аспект
- Ганина Н. А. Готская языческая лексика. Москва: Изд-во "Московский университет", 2001. 176 с.
- Елисеева Е. Б. Лингвокультурема как единица декодирования культурных смыслов при переводе художественного текста // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Изд-во "Грамота". 2013. Вып. 3. № 21. Ч. II. C. 67-70.
- Зиньковская И. В. Новая книга по готской проблеме. Рецензия на книгу: Скардильи П. Готы: язык и культура // Вестник ВГУ. Серия: История. Политология. Социология. Изд-во: Воронежский государственный университет. 2012. №2. С. 166-168.
- Иванова Р. А. Сакральный текст как особый тип специального текста // Linqua mobilis: Научный журнал. Вып. 1. № 15 / Гл. ред. А. А. Селютин. Челябинск: Изд-во "Челябинский государственный университет". 2009. С. 51-55.
- Котин М. Л. О словоформах, содержащих выделяемый элемент -j-, в готском языке: попытка семантической и функциональной реконструкции // LINGUA GOTICA: новые исследования. Вып. 3. / Отв. ред. Е. Б. Яковенко. Москва: БукиВеди, 2017. С. 59-71.