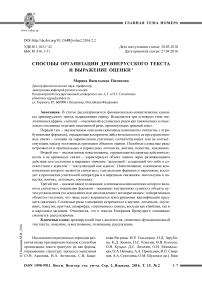Способы организации древнерусского текста и выражение оценки
Автор: Пименова Марина Васильевна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Главная тема номера
Статья в выпуске: 2 т.15, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются функционально-семантические единицы древнерусского текста, выражающие оценку. Выделяются три основных типа эвалюативных (франц. еvaluatif - «оценочный») словесных рядов как законченных в смысловом отношении отрезков письменной речи, организующих древний текст. Первый тип - эвалюативное описание (ключевые компоненты синтагмы с атрибутивными формами), отражающее восприятие действительности в ее пространственных связях - основан на перечислении статичных соответствующих или не соответствующих идеалу постоянных признаков объектов оценки. Подобные словесные ряды встречаются в оригинальных и переводных летописях, житиях, повестях, хождениях. Второй тип - эвалюативное повествование, отражающее восприятие действительности в ее временных связях - характеризует объект оценки через развивающиеся действия или состояния и выражает значение ‘делающий / создающий что-либо в соответствии с идеалом’ / ‘поступающий вне идеала’. Повествование, ключевыми компонентами которого являются синтагмы с глагольными формами и наречиями, восходит к проповедям учительной литературы и к народным сказаниям, используясь в повестях, житиях, летописях, поучениях. Третий тип - эвалюативное толкование, ключевыми компонентами которого являются синтагмы с именными формами - оценивает внутреннюю сущность объекта путем установления его совпадения или несовпадения с мелиоративным / пейоративным объектом-эталоном, что чаще всего выражается конструкциями квалификации предмета (явления). Словесные ряды толкования встречаются в житиях, летописях, поучениях, повестях, притчах, апокрифах, «отреченных» книгах, восходя как к Библии, так и к народным загадкам. Отмечается, что в текстах Епифания Премудрого толкование сменяется рассуждением.
Древнерусский текст, аксиология, семантико-функциональный тип текста, описание, повествование, толкование, рассуждение
Короткий адрес: https://sciup.org/14969965
IDR: 14969965 | УДК: 811.163.1’42 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2016.2.2
Текст научной статьи Способы организации древнерусского текста и выражение оценки
DOI:
Исследователи различных периодов развития языка при широком подходе к способам организации текста трактуют их как формы, отражающие структуру процесса мышления (Э.Н. Акимова, И.А. Антипова, С.И. Баже-
нова-Рагрина, И.Р. Гальперин, Н.Д. Зарубина, К.Д. Зееман, Н.С. Ковалев, В.В. Колесов, О.И. Кулько, Д.С. Лихачев, О.И. Москальс-кая, О.А. Нечаева, А.А. Припадчев, И.П. Смирнов, А.А. Селезнева, О.М. Шукова и др.) . Наш
материал показывает, что к основным способам организации древнерусского текста принадлежат, во-первых, описание и повествование, являющиеся базовыми и для современного текстообразования, во-вторых, «периферийный» с точки зрения синхронии способ, ставящий своей целью конкретизацию абстрактного значения (духовного плана) высказывания, который мы условно называем толкованием [7, с. 117].
Способ организации текста во многом зависит от базового типа семантико-синтагматических текстообразующих единиц – словесных рядов , под которыми А.И. Горшков (вслед за В.В. Виноградовым) понимает «последовательность (не обязательно непрерывную) представленных в тексте языковых единиц разных ярусов, объединенных композиционными функциями и соотнесенностью с определенной сферой языковой коммуникации или определенным приемом языкового выражения» [3, с. 17]. Словесные ряды отражают взаимоотношение объективной ценности реалий окружающего мира и оценки как выражения основанного на ментальных стереотипах субъективного отношения к ценности.
Описательный словесный ряд , представляющий восприятие действительности в ее пространственных связях, основан на перечислении статичных, соответствующих (или не соответствующих) идеалу постоянных признаков одушевленных (неодушевленных) объектов оценки. Подобные словесные ряды встречаются в оригинальных и переводных летописях, хрониках, житиях, повестях, хождениях, продолжая как «словесные портреты» устного народного творчества, так и греческие «описания изображения», «описания процесса» (экфрасисы).
В характеризующих описаниях, включающих перечисление постоянных признаков объекта оценки, чаще всего содержится несколько синтагм с синкретичными именами прилагательными, выражающими мелиоративную оценку в линейном ряду в соответствии с единообразным типом внешности и идеальным представлением о наборе моральных совершенств героя, например: О Борисh, какъ бh възъръм... Тhлъмь бяше красенъ, высокъ, лицьмь круглъмь, плечи велицh, тънъкъ въ чресла, очима добраама, веселъ лицьмь, рода мала и усъ младъ бо бh еще, свhтяся цесарьскы, крhпъкъ тhлъмь, вьсячьскы ук-рашенъ акы цвhтъ цвhтыи въ уности своеи, в ратьхъ хръбъръ, въ съвhтhхъ мудръ и разумьнъ при вьсемь и благодать божия цвьтяаше на немь (СкБГ, с. 302). Пейоративные описания связаны с многообразно-индивидуальными отклонениями от нормы, например: [Фока Мучитель] възрастом же тhлесныим бh срhдни, злообразень, грозенъ имhя възорь, а космы чръмны и вhждя, браду же си стрижаше, имhя брадавицу на образh своем, яже егда разъярьшеся, посинhвааше (пример из: [6, с. 193]).
Описания неодушевленных объектов оценки (например, общего вида какой-либо местности) встречаются в древнерусских текстах относительно редко, причем это исключительно мелиоративные словесные ряды, реализующие значение ‘богатый’ / ‘красивый’, например: И нын h по истинн h есть земля та богомъ об h тованна и благосло-вена есть отъ Бога вс h м добром... по го-рамъ т h мъ краснымъ <...> И воды добры суть в м h сте том и вс h мъ здрави, и есть м h сто то и красотою и вс h мъ добром. Не-сказанна есть земля та около Феврона! (ХождИгДан, с. 70). Кроме того, мелиоративная оценка выражается на уровне контекста в целом, характеризуя природные богатства с качественной / количественной стороны: горы ( превысокия горы ); растительность ( и всяким овощом обилна есть з h ло, и овощ-ми преизобилно, и виногради мнози, и древеса много овощнаа стоятъ бес числа ); реки, озера, источники ( и стремнины глубо-кия, и воды добры суть, источници воднии мнози студени ); животный мир ( и скотом умножена есть, и овци бо и скоти дважды ражаются л h том, и печелами увязло ту есть ) и под. (ХождИгДан, с. 70, 84–86).
Повествовательный словесный ряд, отражающий восприятие действительности в ее временных связях, характеризует объект оценки через развивающиеся действия или состояния и выражает значение ‘делающий / создающий что-либо в соответствии с идеалом’ (или ‘поступающий вне идеала, что приводит к эстетико-этической пейоративности’). Повествование восходит к проповедям учительной литературы и к народным сказани- ям, используясь в повестях, житиях, летописях, поучениях.
Выражающие мелиоративную оценку повествовательные ряды встречаются в тексте «Домостроя», содержащем перечисление действий, которые соответствуют эстетике поведения христиански ориентированной личности во время таинства богослужения: А въ ц h рькви ни с к h мъ не б h седовати, с мол-чаниемъ и послуша стояти, никуда не об-зираяся, ни на стену не прикланятися, ни к столпу, ни с посохомъ не стояти, ни с ноги на ногу не преступати, руц h согб h ни к персемъ крестообразно, твердо и непоколебимо молитися со страхом и треп h томъ, и со воздыханиемъ, и со слезами, и до отп h ния из церкви не исходи-ти, а приити к началу (Домострой, с. 82).
Эксплицирующее пейоративную оценку повествование представлено, например, в эсхатологическом апокрифе «Хождение Богородицы по мукам». При помощи синтагм с глагольными формами настоящего и прошедшего времени перечисляются мучительные состояния, в которых пребывают грешники после смерти: ростовщик ( и увид h святая богородица мужа висяща за нози, и чер-вии ядяху его ); сплетница ( вид h жену ви-сящу за зубъ, и различныя змия исхожаху изо устъ ея и ядяху ея ); расхититель церковного добра ( вид h святая на друз h мъ м h ст h висяща мужа за четверо, за вся края ноготь его, исхожаше кровь велми з h ло, и языкъ его вязашеся отъ пламени огненаго ); священнослужители, которые роняли на землю крупинки просвиры ( и вид h попы висяща отъ краи ногти, исхожда-ше огнь отъ т h мяни ихъ и опаляше я ); попадьи, которые после смерти своих мужей вновь вышли замуж ( и вид h пресвятая жены висяща за вся ногти и пламени ис-хожаше изо устъ ихъ и опаляше вся, и змия исхожаше изъ пламени того и прил h пяху къ нимъ ); монахини-блудницы ( вид h другия жены во огни лежаша и раз-личныя змия ядяху ихъ ) и прочие грешники ( и близъ тоя р h ки бяше тма мрачна: ту лежаше множество мужъ и женъ, и клок-таху яко въ котл h и яко морския волны, и ображаются надъ гр h шники, да егда волны возхождаху, и погружаху гр h шники
1000 локоти ) (Хождение Богородицы, с. 170, 172, 174, 176).
Толкование восходит как к экзегезе библейских притч, так и к вопросно-ответной форме народных загадок, встречаясь в притчах, апокрифах, поучениях, житиях, летописях, повестях, «отреченных» книгах. В словесных рядах толкования объект оценивается путем установления его совпадения (или несовпадения) с каким-либо отвечающим идеальным требованиям объектом-эталоном.
Первый вид толкования, проявляющийся на уровне словосочетания – определительный (Е.М. Верещагин называет его мен-тализацией и рассматривает как прием тер-минотворчества: [2]; см. также: [1]) – состоит, во-первых, в употреблении атрибутивных словосочетаний ( Adj + N / N + Adj ; конкретное существительное + имеющее абстрактное значение прилагательное), во-вторых, в применении восходящих к греческим текстам гене-тивных конструкций ( N + N2 ; конкретное существительное + существительное абстрактного значения в родительном падеже).
Сравним не содержащий толкования символов (объектов-эталонов) «исходный» текст Григория Богослова и его толкование Кириллом Туровским в «Слове на антипасху».
Ср.: (Григорий Богослов) Нынh же ратаи рало погружаеть... и подъ яремъ ве-деть вола орачь, и прочертаеть сладкую бразду, и надеждами веселится... и рыбарь глубины прозираетъ, и мрежу очищаетъ, и камениемъ пресhдитъ... Нынh же гнhздо птица устрояетъ, и ово убо привосходитъ, ова же вселяется, ова же облhтаетъ, и оглашаетъ лугъ и приглаголюетъ человhку (цит. по: [5, с. 434]) – (Кирилл Туровский) Нынh ратаи слова, словесныа юнца къ духовному ярму приводяще, и крестное рало въ мысленыхъ браздахъ погружающе, и бразду покааниа прочертающе, и сhмя духовное всhвающе, надеждами будущихъ благъ веселятся... и рыбари глубину божия въчеловhчения испытавше, полну церковную мрежю ловитвы обрhтають... Ныня вся доброгласныя птица церковных ликов гнhздящеся веселяться. И птица бо, рече пророк, обрhте гнhздо себh алтаря твоя... и свою каяждо поющи пhснь сла-вять Бога гласы немолчьными <...> Ныня зима грhховная покаяниемь престала есть (КТур, с. 417). Приведем еще иллюстрации из «Слова о законе и благодати» киевского митрополита Илариона: Иудhи бо при свhшти законнhи дhлааху свое оправдание, хрис-тияни же при благодhтьним солнци свое спасение зиждють (ИларСлЗак, с. 585); По всеи бо земли суша бh прhжде, идольстhи льсти языкы одержашти и росы благодhтьныа не приемлющемь (ИларСл-Зак, с. 586); И законное езеро прhсъше, еван-гельскыи же источникъ наводнився и всю землю покрывъ, и до насъ разлиася (Илар-СлЗак, с. 589); Пустh бо и прhсъхлh земли нашеи сущи, идольскому зною исушивъши ю, вънезаапу потече источникъ евангельс-кыи, напаая всю землю нашу, яко же рече Исаия: «Разверзется вода ходящиимъ по безднh, и будеть безводнаа въ блата, и въ земли жажущии источникъ воды будеть» (ИларСлЗак, 590); Тогда начатъ мракъ идольскыи от нас отходити, и зорh благовhрия явишася, тогда тма бhсослугания погыбе и слово евангельское землю нашю осия (ИларСлЗак, с. 592).
Таким образом, в «Слове...» К. Туровского конструкция Adj + N / N + Adj реализуется в следующих словосочетаниях: сло-весныа юнца, къ духовному ярму, крестное рало, въ мысленыхъ браздахъ, с h мя духовное, зима гр h ховная, полну церковную мрежю, доброгласныя птица, при св h шти законн h и, при благод h тьним солнци, росы благод h тьныа, законное езеро, евангельскыи источникъ, идольскому зною, мракъ идольскыи, зор h благов h рия, тма б h сослуганиа ; конструкция N + N2 реализуется в словосочетаниях ратаи слова , бразду покааниа, надеждами будущихъ благъ, глубину божия въчелов h чения и др.
В отдельных случаях атрибутивное словосочетание объединяет абстрактное существительное и конкретное прилагательное, например: Бчелы ничим же хужшу ему быти разум h ю , медоточныа глаголы испущаа, цв h товных словес сотъ съпл h таа, да кл h тца сладости сердцю исплънить (СлЖитДмДон, с. 222); предс h даниемь словес учитель препираше , и философ уста смотрениемь загражаше (СлЖитДмДон, с. 224).
Второй вид толкования – идентифицирующий (прием транспозиции по терминологии Е.М. Верещагина: [2]) – заключается в использовании на уровне предложения конструкций квалификации В (есть) А (‘что есть что / кто есть кто / что есть кто’ и под.). Ср.: (Григорий Богослов) «Нын h небо св h тл h ише, ныне солнце высочаише и златовидн h ише » (цит. по: [5, с. 434]) – (Кирилл Туровский) Нын h солнце красуяся к высот h въсходить и ра-дуяся землю огр h ваеть, – взиде бо нам от гроба праведное солнце Христос и вся в h рующая ему спасаеть (праведное солнце – Христос); Днесь весна красуеться оживля-ющи земное естьство, и бурьнии в h три тихо пов h вающе плоды гобьзують <...> Весна убо красная есть в h ра Христова , яже крещениемь поражаеть челов h ческое паки естьство; бурнии же в h три – гр h хотворнии помыслы , иже покаяниемь претворьшеся на доброд h тель душеполез-ныя плоды гобьзують (КТур, с. 416).
Третий вид толкования – сравнительный – осуществляется при употреблении в сложном предложении сравнительных оборотов, толкующих внутреннюю сущность символа путем использования мелиоративных / пейоративных образов – А сходно / не сходно с В (по признаку С ): (как пчела) Азъ бо, княже, ни за море ходилъ, ни от философъ научихся, но бых аки пчела , падая по розным цв h там , совокупляя медвеныи сотъ , тако и азъ, по многим книгамъ исъбирая сладость словесную и разум (Моление, с. 398); (как звери) акы зв h рье жадають на-сытитися плоть , тако и мы жадаемъ и не престанемъ, абы вс h хъ погубити, а гор-кое то им h ньи и кровавое к соб h пограбити: зв h рье h дше насыщаються , мы же насы-титися не можемъ: того добывше, друга-го желаемъ (СВл, с. 448).
Следующие виды толкования проявляются только на уровне текста в целом. Сопоставительная параллелизация – В и А, D и В, тако и А (‘этот как тот’), например: Не съставить бо ся корабль без гвоздии, ни праведьник бес почитания книжьнааго. Красоту воину оружие и кораблю ветрила, тако и правьднику почитание книжь-ное (Изб 1076, с. 259) . Противопоставительная параллелизация – не В, но А; не D, но
-
В. .. (‘не тот, но этот’), например: И уже не идолослужителе зовемся, нъ христиане, не еще безнадежници, нъ уповающе въ жизнь в h чную. И уже не капище сътонино съграждаемъ, нъ Христовы церкви зиж-демь, уже не закалаемь б h сомъ другъ друга, нъ Христос за ны закалаемь бываеть и дробимъ въ жертву Богу и Отьцю. И уже не жерьтвеныя крове въкушающе, погыба-емь, нъ Христовы прчистыя крове въкуша-юще, съпасаемся (ИларСлЗак, с. 589).
Современная метафора реализуется в контекстах, построенных по тем же принципам, что и древнерусское толкование: 1) атрибутивные словосочетания ( горький упрек, жидкие аплодисменты, мутное сознание, парафиновое лицо, постная физиономия, свежая злоба, сладкая мелодия, тусклый голос ); 2) генетивные конструкции ( закат жизни, калейдоскоп событий, колонна демонстрантов, нос лодки, паутина лжи, прелюдия боя, пролог событий, эхо похвал ); 3) конструкции квалификации, выражающие синтаксически обусловленное значение (‘кто есть кто / кто есть что’ (по отношению к человеку) – бревно, ворона, заяц, колода, кряж, лиса, медведь, огарок, орел, свинья, слон, шляпа, чурбан ) и др. [8]. При помощи конструкций квалификации строится также современное толкование, сохраняющееся в лексикографии и учебной литературе.
Наш материал показывает, что в «Слове о житии и учении святого отца нашего Стефана» Епифания Премудрого толкование впервые заменяется современным нам функционально-семантическим типом речи – рассуждением , устанавливающим причинно-следственные связи между явлениями при помощи доказательства истинности какого-либо утверждения.
Епифаний Премудрый доказывает глобальность деяний Стефана путем сопоставления значимости создания эстетически совершенной церкви Благовещения в Пермской земле с значимостью самого праздника Благовещения и месяца марта в священной истории, что подчеркивается многократным повторением ключевых лексических единиц: Оус-тави же ся таковы праздникъ празднова-ти месяца марта в 25 день, рекше, яко сии праздникъ есть зачало всhмъ праздникомъ великымъ господьнскым, и яко се есть на-чатокъ спасению нашемоу, емоу же и тропарь настоящии послоушествоуетъ рекыи: день спасению нашемоу начатокъ, и вhчнhи таинh явление... Яко се есть мартъ месяць начало всhмъ месецемъ, иже первыи наречется въ месецехъ, емоу ж свидhтельствоует Моисии законода-вець, глаголя: месець же вамъ первы въ ме-сецехъ да боудеть мартъ <...>. Да елма ж оубо мартъ начало есть всhм месе-цемъ, и всемоу лhтоу, и всhм еже в годоу временомъ, поне ж бо мартъ есть начал-ныи месець, и в началном месецh начал-ныи праздникъ [да яко ж благовhщение началны есть праздникъ] праздникомъ и спасению нашему начятокъ, и вhчнhи тайнh явление <...>. Тако же и церкви пермьскаа, начатокъ спасению Пермьс-киа земля, и вhрh Христовh явление (ЖитСт, с. 23). (Ср.: начатокъ спасению нашемоу / день спасению нашемоу нача-токъ / начало / началныи / в началном / началныи / началны / начятокъ – начатокъ спасению Пермьскиа земля, вhчнhи тайнh явление – вhрh Христовh явление). В завершающем аргументе рассуждения Епифа-ния Премудрого происходит отождествление церкви Благовещения, созданной Стефаном, с Церковью вообще, с верой в Христа: Събе-ри, Господи, люди своя расточеныя и овца своя заблоуджьшаа, и введи я’ въ церковь святоую твою, приедини я’ къ святhи своеи съборнhи апостольстhи церкви (ЖитСт, с. 23–24).
Таким образом, рассмотренные способы организации древнерусского текста демонстрируют процесс представления действительности в языковой картине мира Древней Руси от описания – повествования – толкования к описанию – повествованию – рассуждению, что отражает смену концептуальных форм ментальности и, по образному выражению В.В. Колесова, «взросление мысли в категориях языка» [4, с. 5].
В заключение необходимо подчеркнуть, что проблема выражения оценки в древнерусском тексте в рамках взаимодействия основных типов восприятия действительности (концептуальных форм мышления) и представления действительности (способов текстообра- зования) требует дальнейшего изучения в плане диахронии.
Список литературы Способы организации древнерусского текста и выражение оценки
- Антипова, И. А. Способы толкования символа в древнерусском тексте: дис.. канд. филол. наук/Антипова Ирина Александровна. -Владимир, 2010. -157 с.
- Верещагин, Е. М. У истоков славянской философской терминологии: ментализация как прием терминотворчества/Е. М. Верещагин//Вопросы языкознания. -1982. -№ 6. -С. 105-114.
- Горшков, А. И. Теория и история русского литературного языка/А. И. Горшков. -М.: Высшая школа, 1984. -319 с.
- Колесов, В. В. Философия русского слова/В. В. Колесов. -СПб.: ЮНА, 2002. -448 с.
- Никольская, А. Б. К вопросу о пейзаже в древнерусской литературе/А. Б. Никольская//Сборник ОРЯС АН СССР. -Т. 101, № 3. -Л.: Наука, 1928. -С. 433-439.
- Никольская, А. Б. К вопросу о «словесном портрете» в древнерусской литературе/А. Б. Никольская//Сборник статей к 40-летию ученой деятельности А.С. Орлова. -Л.: Наука, 1934. -С. 191-200.
- Пименова, М. В. Красотою украси: выражение эстетической оценки в древнерусском тексте/М. В. Пименова. -СПб.; Владимир: Филол. фак. СПбГУ: ВГПУ, 2007. -415 с.
- Скляревская, Г. Н. Метафора в системе языка/Г. Н. Скляревская. -СПб.: Филол. фак. СПбГУ, 2004. -166 с.
- Домосторой -Домострой/подгот. текста В. В. Колесова//Памятники литературы Древней Руси. Сер. XVI в. -М.: Худож. лит., 1985. -С. 70-173.
- ЖитСт -Житие св. Стефана, епископа Пермского, написанное Епифанием Премудрым/подгот. текста В. Г. Дружинина. -Спб.: Тип. Императорской Академии наук, 1897. -112 с.
- Изб 1076 -Изборник 1076 года/под ред. С. И. Коткова. -М.: Наука, 1965. -1090 с.
- ИларСлЗак -Митрополит Иларион. Слово о Законе и Благодати/подгот. текста А. М. Молдована//Памятники литературы Древней Руси. XVII век. Книга третья. -М.: Худож. лит., 1994. -С. 583-619.
- КТур -Литературное наследие Кирилла Туровского/подгот. текста И. П. Еремина//Труды отдела древнерусской литературы. -М.; Л.: АН СССР, 1957. -Т. 13. -С. 409-426.
- Моление -«Моление» Даниила Заточника/подгот. текста Д. С. Лихачева//Памятники литературы Древней Руси. XII век. -М.: Худож. лит., 1980. -С. 388-399.
- СВл -«Слова» С ерапиона Владимирского/подгот. текста В. В. Колесова//Памятники литературы Древней Руси. XIII век. -М.: Худож. лит., 1981. -С. 440-455.
- СкБГ -Сказание о Борисе и Глебе/подгот. текста Л. А. Дмитриева//Памятники литературы Древней Руси. XI -начало XII века. -М.: Худож. лит., 1978. -С. 278-303.
- СлЖитДмДон -Слово о житии и преставлении великого князя Дмитрия Ивановича/подгот. текста М. А. Салминой//Памятники литературы Древней Руси. XIV -середина XV века. -М.: Худож. лит., 1981. -С. 208-229.
- Хождение Богородицы -Хождение богородицы по мукам/подгот. текста М. В. Рождественской//Памятники литературы Древней Руси. XII в. -М.: Худож. лит., 1980. -С. 166-183.
- ХождИгДан -Хождение игумена Даниила/подгот. текста Г. М. Прохорова//Памятники литературы Древней Руси. XII в. -М.: Худож. лит., 1980. -С. 24-115.