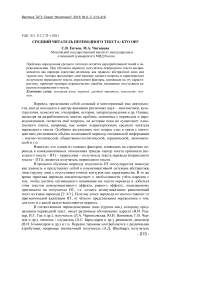Средний читатель переводного текста: кто он?
Автор: Евтеев Сергей Валентинович, Чигашева Марина Анатольевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Проблемы перевода
Статья в выпуске: 2, 2018 года.
Бесплатный доступ
Проблема определения среднего читателя остаётся неразработанной темой в переводоведении. При обучении переводу получатель переводного текста воспринимается как априори известная величина, как правило, абстрактное лицо или группа лиц. Авторы предлагают своё видение данного вопроса и характеризуют получателя переводного текста, определяют факторы, влияющие на эту характеристику, приводят примеры переводческих ошибок, вызванные отсутствием адресности переводного текста.
Немецкий язык, перевод, средний читатель, неясность, деоним
Короткий адрес: https://sciup.org/146281247
IDR: 146281247 | УДК: 811.112.2`25
Текст научной статьи Средний читатель переводного текста: кто он?
Перевод, представляя собой сложный и многогранный вид деятельности, всегда находился в центре внимания различных наук – лингвистики, культурологии, психологии, этнографии, истории, литературоведения и др. Однако, несмотря на разработанность многих проблем, связанных с переводом и пере-водоведением, остаются ещё вопросы, на которые пока не существует однозначного ответа, например, как можно охарактеризовать среднего читателя переводного текста. Особенно актуальным этот вопрос стал в связи с многократным увеличением объёма подлежащей переводу специальной информации – научно-технической, общественно-политической, юридической, экономической и т.п.
Известно, что одним из главных факторов, влияющих на стратегию перевода в коммуникативных отношениях триады «автор текста оригинала (исходного текста – ИТ) – переводчик – получатель текста перевода (переводного текста – ПТ)», является получатель переводного текста.
В процессе обучения переводу получатель ПТ постулируется зачастую как данность и представляет собой в коммуникативной ситуации абстрактное лицо (группу лиц) с отсутствием точных контуров или характеристик. В то же время практика перевода свидетельствует о необходимости учёта адресата с тем, чтобы достичь оптимального понимания им текста перевода и добиться этим текстом коммуникативного эффекта, равного эффекту, оказываемому оригиналом на получателя ИТ, т.е. создать коммуникативно равноценный текст на языке перевода [2: 411]. Поэтому успех перевода во многом зависит от прагматической адаптации ПТ, от чёткого представления переводчика о том, для кого и с какой целью выполняется перевод.
В отечественном переводоведении лицо (группа лиц), которому предназначен переводной текст, имеет различные обозначения: адресат (Я.И. Рец-кер, В.Г. Гак и др.), получатель (Л.А. Черняховская, Ю.В. Ванников, Г.В. Чернов и др.), читатель / слушатель (Л.С. Бархударов и др.), реципиент, рецептор (В.Н. Комиссаров и др.) и т.п. Нередко термины употребляются с различными атрибутами, например: иноязычный получатель (А.Д. Швейцер), получатель - 213 - текста перевода (Н.К. Гарбовский и др.), «усредненный» рецептор (В.Н. Комиссаров и др.), средний (обычный, предполагаемый, целевой, рядовой) читатель, потенциальный получатель, определённый адресат, конечный реципиент и т.п. Подобная терминологическая ситуация наблюдается и в зарубежной литературе о переводе, в частности в немецкой: Zieltextempfänger, ZT-Empfänger, zielsprachlicher Textempfänger (= получатель текста перевода: K. Reiß), ZT-Leser (= читатель текста перевода: W. Wilss), potenzieller, imaginärer, fiktiver Empfänger (= потенциальный, воображаемый, условный получатель: H.J. Vermeer), durchschnittlicher Leser (= средний читатель: S. Reinart), bestimmter Empfänger des ZT (= определенный получатель текста перевода), Übersetzungsadressat (= адресат перевода), ZT-Rezipient (= реципиент текста перевода) и т.п. Отсутствие однозначного определения получателя переводного текста свидетельствует о различных подходах к пониманию термина и о том, что терминологическая работа в этой области ещё далека от своего завершения. Отечественный теоретик перевода Л.К. Латышев, например, отдаёт предпочтение термину «адресат», «поскольку в нём чётко выражено значение адресности, предназначенности текста индивиду или коллективу, в то время как получателем (рецептором) в принципе может оказаться тот, кому текст не предназначен (на кого он не рассчитан)» [3: 59].
Почему же в процессе перевода важно учитывать получателя переводного текста? Ориентация на получателя перевода предполагает возможность извлечения из оригинала и перевода одинаковой информации и возможность достижения сходных (аналогичных) коммуникативных эффектов, равновоз-действенности переводного текста и оригинала, т.е. прагматической эквивалентности. Переводчик создаёт текст, понятный получателю, и определяет, где, что, как и в каком объёме нужно изменить в исходном тексте, адаптировать или дополнить его в связи с культурной спецификой и расхождениями информационных запасов (пресуппозиций, фоновых или преинформационных знаний) представителей исходного и переводящего языков (ИЯ и ПЯ).
Получатель перевода может быть коллективным или индивидуальным, персонифицированным (известным) или умозрительным (абстрактным). При этом виды ф оновых знаний участников коммуникации могут быть различными. Считаем необходимым обратить внимание на следующие из них:
-
- общие фоновые знания, которыми обладают все участники коммуникации обоих лингвокультурных сообществ;
-
- профессиональные групповые фоновые знания, известные определённому профессиональному или социальному сообществу (например, юристам-международникам, дипломатическим работникам и т.п.);
-
- индивидуальные фоновые знания, известные небольшой группе людей (например, составу делегации) или только говорящему и слушающему [1: 78].
Данную классификацию следует расширить с учётом о бъ ёма ф оно вых знаний у получателей перевода и оригинала:
-
- объёмы фоновых знаний у получателей оригинала и перевода совпадают (например, у специалистов в определённой предметной области);
-
- объём фоновых знаний у получателей перевода меньше, чем у получателей оригинала;
-
- объём фоновых знаний у получателей перевода больше, чем у получателей оригинала (например, тексты о реалиях или событиях в сообществе ПЯ, когда имеющаяся дополнительная информация в тексте оригинала может быть излишней, избыточной в переводном тексте и может вести к сокращению или упрощению текста перевода).
Расхождение информационных запасов, которое оценивает переводчик в определённой коммуникативной ситуации, требует текстовых модификаций при переводе с целью добиться необходимого коммуникативного эффекта со стороны адресата. Из практики следует, что самую большую переводческую трудность представляют случаи, когда информационные запасы у получателей перевода меньше, чем у получателей оригинала. Это ведёт к необходимости внесения в текст перевода дополнительной информации в виде комментариев, примечаний переводчика и т.п. Получатель должен не только понять текст перевода вообще, но и понять его правильно. Отметим, что труднодоступность ПТ (в отличие от доступности ИТ для своих получателей) может не вызвать достаточного понимания и интереса у получателей перевода и привести к неравноценным коммуникативным эффектам. Чем больше расхождений в объёме фоновых знаний, тем больше дополнений. Однако следует помнить, что у подобных примечаний имеются существенные недостатки. Примечания создают неравные условия в восприятии перевода и оригинала у адресатов, нарушают целостность восприятия у получателя перевода, а большое количество примечаний превращает текст перевода в иной продукт языкового посредничества, например, в пересказ. Итак, у примечаний в переводе есть ограничения.
Здесь следует отметить, что при ориентации текста перевода на получателя существует несколько подходов. В 1980-е годы немецкие переведоведы Катарина Райс и Ганс Фермеер разработали скопос-теорию, в соответствии с которой переводной текст интерпретируется и адаптируется сообразно цели, задаваемой заказчиком / инициатором перевода или переводчиком, с самостоятельным определением читательской аудитории. Подобный подход позволил создателям теории отказаться от эквивалентности ИТ и ПТ, в частности от прагматической эквивалентности и от максимально полного воспроизведения особенностей оригинала. По мнению австрийского лингвиста Э. Прунча, в этом случае происходит низвержение исходного текста, смерть Автора и смерть оригинала [5: 417–418]. Так, научный текст при таком «переводе» для неспециалистов может стать научно-популярным, художественный - кратким пересказом содержания и т.п. На основе подобного подхода могут создаваться различные переложения (пересказы, рефераты, адаптации и другие виды языкового посредничества), что встречается в практической деятельности переводчика, но собственно переводом не является. Помимо равновоздейственно-сти обоих текстов, что может обеспечиваться различными видами языкового посредничества с отличиями в содержании, ещё одним требованием к собственно переводу является максимально возможная семантико-структурная аналогичность ИТ и ПТ. Поэтому к переводу и к другим видам языкового посредничества должны применяться различные требования и критерии оценки качества конечного продукта.
Важным фактором, который влияет на характеристики получателя ПТ и учитывается переводчиком, является тип текста. Каждый тип текста имеет своё содержание, форму и свою коммуникативную функцию, например, информативную, эстетическую, эмоциональную и т.п., и рассчитан на определённую аудиторию со своими ожиданиями. В зависимости от типа текста меняются и адресаты. Реципиенты научных текстов ожидают получить достоверную, надежную и научно обоснованную информацию, реципиенты художественных текстов – произведение эстетического характера и т.п. Подобные ожидания при необходимости достичь равноценного коммуникативного эффекта ИТ и ПТ ориентируют переводчика при создании переводного текста на определённые, специфические языковые и предметные знания потенциального получателя, его образовательный уровень.
Таким образом, адресата (получателя, читателя, реципиента) перевода можно определить как лицо или группу лиц со своими специфическими фоновыми, предметными, языковыми знаниями и ожиданиями в определённой сфере общения, для которых предназначен текст перевода с равноценным коммуникативным эффектом и с максимально возможной семантико-структурной аналогичностью обоих текстов.
В этой связи переводчика можно считать не только экспертом в межъязыковой и межкультурной коммуникации, но и специалистом в области фоновых знаний представителей двух культур. Как специалист в этой области он должен обладать коммуникативной , межкультурной , текстоо б-разующей , прагматическ ой и перев одческой компетенциями. Коммуникативная компетенция позволяет анализировать и понимать коммуникативные ситуации получателя ИТ и получателя ПТ, определять расхождения фоновых знаний и компенсировать их для производства равновоздей-ственного переводного текста. Межкультурная компетенция предполагает знания о культурах ИЯ и ПЯ и культурно значимых различиях. Текстообразующая компетенция необходима, чтобы знать различия типов текстов и уметь их учитывать при создании переводного текста. Прагматическая компетенция представляет собой умение воздействовать на получателя перевода в соответствии с коммуникативным намерением. И, наконец, переводческая компетенция важна для устранения расхождения фоновых знаний с помощью известных приёмов перевода.
В случае, если не учитывается адресность переводного текста, т.е. его получатель, если игнорируются расхождения фоновых знаний носителей ИЯ и ПЯ и не производится необходимая модификация текста, возникают переводческие ошибки. Они связаны, как правило, с непониманием, неправильным или затруднённым пониманием содержания текста перевода и представляют собой, с нашей точки зрения, такую категорию ошибок, как неясность . В этом случае речь идёт о «затемнении» в переводном тексте смысла исходного высказывания. Иначе говоря, текст перевода не отражает чётко и однозначно мысль автора, которая совершенно чётко и однозначно выражена в тексте оригинала. По мнению Л.К. Латышева, неясно сть может привести к дезориентации получателя информации, что представляется нежелательным [3: 238].
Приведём несколько примеров подобных ошибок из переводческой практики. Фраза «Сообщение Москва 24 о программе строительства …» была переведена обучаемым дословно: «Nach einer Mitteilung von Moskau 24 über das Bauprogramm …». При этом переводчик не учёл того, что этот информацион-- 216 - ный канал известен российским телезрителям, но может быть совершенно не знаком зарубежным получателям перевода. Удачным можно было бы считать, например, следующий вариант перевода: «Der russische Nachrichten-Fernsehsender Moskau 24 teilte … mit». Ещё несколько примеров: фраза «Немецкая газета Бильд пишет сегодня о …» переведена обучаемым на немецкий язык дословно: «Die deutsche Zeitung Bild berichtet heute über…». Однако в Германии эта самая большая по тиражу газета достаточно хорошо известна, и нет необходимости сообщать получателю перевода избыточную информацию о стране издания. Поэтому более удачным был бы такой вариант: «Die Bild (или Die “Bild”-Zeitung). berichtet heute über…».
Фраза «Die Sondierungsgespräche für eine Jamaika - Koalition sind gescheitert» переведена обучаемым без учёта получателя перевода, которым в задании являются читатели российских ежедневных общественнополитических газет, а именно: «Предварительные переговоры по формированию коалиции “Ямайка” провалились». Очевидно, что не всем указанным читателям будет ясно, о чём идёт речь. Можно предложить следующий вариант перевода: «Предварительные переговоры по созданию правящей коалиции в Германии, так называемой коалиции “Ямайка” в составе блока ХДС/ХСС (цвет партий – черный), Свободной демократической партии (цвет партии -желтый) и партии “Зеленых”, провалились». Практика показывает, что по этому пути пошли многие российские СМИ, например: « Коалиция “Ямайка” , как ее называют из-за партийных цветов ХДС/ХСС, Зеленых и Свободных демократов, …» [20.11.2017; vesti.ru]; «… так называемой Ямайка - коалиции по соответствию партийных цветов флагу Ямайки : ХДС/ХСС, “Зеленые” и либералы из СвДП …» [24.09.2017; rbc.ru], «… формирование правящей коалиции, названной “Ямайкой” за сходство партийных цветов с национальным флагом островного государства …» [22.11.2017; novayagazeta.ru] и т.д.
С примерами неясности получатель часто сталкивается при чтении текстов перевода, где встречаются специфические реалии, не имеющие аналогов в культуре переводного языка, сокращённые названия политических партий, названия должностей государственных и политических деятелей и т.п.
К случаям неясности в тексте перевода, на наш взгляд, следует отнести также потерю образности и экспрессивности, которая может снизить эмоциональное воздействие на получателя информации и не произведёт на него того впечатления, на которое рассчитывал автор текста. Особенно важно учитывать это при переводе текстов политического дискурса. Как отмечает М.А. Чигаше-ва, это связано с суггестивной и манипулятивной функциями медийного дискурса, частью которого и является политический дискурс [6]. В подобных текстах последнего времени довольно часто встречаются деонимические наименования, обладающие в языке оригинала ярко выраженной негативной коннотацией. Приведем пример: «Und Frankreich wird genau hinschauen, wie Deutschland die vor ihm liegende Integrationsaufgabe hunderttausender Flüchtlinge bewältigen wird. Denn nach wie vor hält die französische Regierung die Merkel’sche Politik der offenen Arme für falsch» [07.04.2016, Deutschlandfunk]. Контекстуальное значение деонима Merkel’sch не вызывает трудности, однако предложенный вариант перевод политика Меркель нельзя считать удачным. Он представляет собой неясность, так как не содержит отрицательного значения, зало- женного автором ИТ. В данном случае наблюдается синонимия к значению словосочетания Merkels Politik, что является ошибочным, потому что задача деонима – показать отрицательное отношение автора высказывания к данному явлению. В качестве удачного перевода словосочетания die Merkel’sche Politik можно предложить вариант политика «а-ля Меркель», в котором просматривается негативная коннотация: «А Франция посмотрит, как Германия справится с задачей интеграции сотен тысяч беженцев. Поскольку, как и прежде, французское правительство считает политику открытых дверей “а-ля Меркель” ошибочной».
В конце 2017 г. в связи с политическим кризисом в Германии в немецкоязычной прессе довольно часто встречался деоним Merkelismus , хотя появился он ещё раньше : «Das Ende des Merkelismus hat etwas Aufregendes» [01.01.2018; Welt.de]; «Kommt das “Ende des Merkelismus ”?» [23.11.2017; Kurier.at]; «Das Ende des Merkelismus ist erreicht, … » [23.11.2017; Spiegel.de]. В российской прессе в этом случае нередко прибегали к буквальному переводу, однако термин стоял в кавычках, например: «Как отмечает журнал (прим.: журнал Spiegel), сейчас наблюдается крах “меркелизма” » [23.12.2017; kprf.ru]. Очевидно, это связано с тем, что журналисты, ссылаясь в своих статьях на немецкоязычные источники, не смогли подобрать соответствующий эквивалент в языке перевода, как в случае с описанным выше примером Jamaika-Koalition . На некоторых сайтах встречался более удачный, с нашей точки зрения, эквивалент «эра Меркель» , например: «Сегодня может закончиться эра Меркель » [11.01.2018; inosmi.ru]. В отдельных источниках в одной публикации можно обнаружить оба варианта, например: « “Меркелизм” явно находится на последней стадии, считает редакция Spiegel…»; «Они предчувствуют, что крах неизбежен, грядет конец эры Меркель » [17.12.2017; newsru.md].
Отметим, что оба варианта перевода деонима представляют собой неясность, так как в первом случае не раскрывается значение термина, во втором – не содержится отрицательной коннотации. Однако здесь вряд ли можно предложить более удачные варианты, поскольку в языке перевода (в нашем случае – русском) отсутствуют аналогичные образные средства выражения негативного значения. Подчеркнём, что в случае поиска эквивалента (в нашем случае – к деонимам) основную проблему представляет лингвоэтнический барьер по терминологии Л.К. Латышева [4: 105–107].
В заключение следует отметить важность обращения внимания переводчика на адресата и коммуникативную задачу (цель) переводного текста. Это будет влиять на выбор стратегии перевода и языковых средств, на анализ расхождений фоновых (информационных) запасов адресатов ИТ и ПТ, на внесение необходимых дополнений в текст перевода или его упрощение, на набор приёмов перевода для подобных модификаций текста. На решение этих задач с целью адекватного восприятия текста перевода должна быть направлена система упражнений уже на раннем этапе подготовки переводчиков с тем, чтобы избежать типичных переводческих ошибок обучаемых.
Список литературы Средний читатель переводного текста: кто он?
- Евтеев С.В. Немецкий язык. Теория перевода. Основные положения: учеб. пособие; под общ. ред. А.Л. Семенова. Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России; каф. нем. яз. М.: МГИМО-Университет, 2014. 185 с.
- Комиссаров В.Н. Современное переводоведение: учеб. пособие. М.: ЭТС, 2002. 424 с.
- Латышев Л.К. Технология перевода: учеб. пособие для студ. лингв, вузов и фак. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательский центр «Академия», 2005. 320 с.
- Латышев Л.К., Семенов А.Л. Перевод: теория, практика и методика преподавания: учеб. пособие для студ. перевод. фак. высш. учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2003. 192 с.
- Прунч Эрих. Пути развития западного переводоведения. От языковой асимметрии к политической/пер. с нем. М.: Р.Валент, 2015. 512 с.
- Чигашева М.А. Лексические новообразования в немецком политическом медиа-дискурсе//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2017. № 2. С. 186-191.