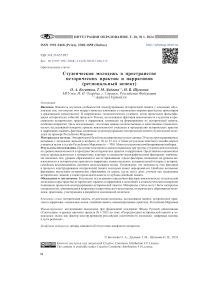Студенческая молодежь в пространстве исторических практик и нарративов (региональный аспект)
Автор: Богатова О.А., Дадаева Т.М., Шумкова Н.В.
Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu
Рубрика: Социология образования
Статья в выпуске: 1 (114), 2024 года.
Бесплатный доступ
Введение. Важность изучения особенностей конструирования исторической памяти у молодежи обусловлена тем, что именно этот возраст является ключевым в становлении мировоззренческих ориентиров и гражданской идентичности. В современных геополитических условиях, когда происходит фальсификация исторических событий прошлого России, исследование факторов вовлеченности студентов в пространство исторических практик и нарративов, влияющих на формирование их исторической памяти, особенно возрастает. Цель исследования - на основе данных количественных и качественных социологических исследований измерить уровень вовлеченности учащихся в пространство исторических практик и нарративов; выявить факторы, влияющие на конструирование исторической памяти студенческой молодежи на примере Республики Мордовия.
Историческая память, студенческая молодежь, исследования памяти, исторические практики и нарративы, социальные медиа, семейная память, коммеморативные практики, республика мордовия
Короткий адрес: https://sciup.org/147243143
IDR: 147243143 | УДК: 316:37-057.875 | DOI: 10.15507/1991-9468.114.028.202401.098-110
Текст научной статьи Студенческая молодежь в пространстве исторических практик и нарративов (региональный аспект)
На современном этапе развития исследований памяти так и не сложилось четкого определения «исторической памяти» и смежных с ней терминов – коллективная, социальная, культурная память [1-3], а также историческое знание, историческое сознание, историческая культура и историческая идентичность [4; 5]. Из-за междисциплинарного характера исследований до конца не разрешены методологические вопросы. Как отмечает Дж. Олик, изучение памяти до сих пор находится в процессе пересмотра своей методологии, в том числе за счет расширения дисциплинарных, темпоральных, географических рамок исследования [6].
Несмотря на запутанность понятийного аппарата и отсутствие единой методологии большинство исследователей исторической памяти рассматривают ее в русле социального конструктивизма – все они признают социокультурную обусловленность исторической памяти, ее динамический характер и консолидирующую функцию. Существующие теории и концепции контрпамяти, постпамяти, протезной памяти, мест памяти, забвения, травмы описывают механизмы конструирования коллективной памяти как процесс преднамеренного формирования заинтересованными социальными субъектами структуры и содержания социально одобряемого памятования и забвения [7; 8].
В исследованиях памяти особое внимание уделяется изучению исторической памяти молодых людей, поскольку период молодости и раннего взросления критически важен для формирования системы взглядов и ценностных ориентаций каждого нового поколения.
Цель статьи – на основе социологических исследований, проведенных в Республике Мордовия, выявить степень вовлеченности студентов в исторические практики и нарративы, а также определить факторы, влияющие на формирование их исторической памяти.
Обзор литературы
Выделяют три волны исследований памяти. Первая волна датируется первой половиной ХХ в., когда были созданы теории А. Варбурга и М. Хальбвакса и были очерчены «социальные рамки памяти»1 [9]. Начало второму этапу положили концепции «мест памяти» П. Нора и «культурной памяти» Я. и А. Ассман, обративших внимание на процессы конструирования памяти на уровне национальных государств2.
Развивая идеи супругов Ассман о свойстве социальной памяти спустя два-три поколения постепенно превращаться в культурную, М. Хирш предлагает концепцию «постпамяти». Феномен «постпамяти» она описывает как совокупность отношений с памятью о событиях из жизни предыдущих поколений, сложившихся в результате реинтерпретации и изменения содержания информации, относящейся к прошлому, под влиянием поколенческих социальных установок и ценностей, сформированных социальной и информационной средой3.
Концепции, пришедшие на третьей волне исследований памяти, акцентируют внимание на культурных последствиях распространения медиатехнологий [10; 11]. С увеличением роли средств массовой информации в жизни общества и появлением социальных медиа стирается привязка памяти к определенным территориям и культурам, кроме того, исчезает четкая граница между культурной (преимущественно письменной) памятью и коммуникативной [12]. В частности, Э. Ригни и А. Эрлл обращают внимание на противоречивые последствия воздействия медиатизации на коллективную память в эпоху цифровых технологий. Это выражается в объединении индивидуальных воспоминаний и их преобразовании в состав коллективной памяти через интер-нет-архивы, онлайн-платформы с воспоминаниями, «вики-память», виртуальные экскурсии по музеям. Все это создает эффект «гипермедиатизации» (гиперопосредованности) за счет одновременного доступа к прошлому из многих источников по целому ряду каналов4 [13].
Выделяются новые виды памяти - интернет-память, которой приписываются такие свойства, как гиперсвязанность (глобальная вовлеченность пользователей), невозможность забвения в цифровом мире, изменчивость и зависимость от алгоритмов социальных медиа [14].
В отечественном научном дискурсе исследования исторической памяти осуществляются преимущественно в рамках отмеченных направлений. Так, концепцию «постпамяти» применяет в своих исследованиях Р. Э. Бараш, рассматривая в качестве важнейшей ее составляющей семейную историю5.
Российские исследователи также изучают последствия цифровизации социальной памяти в аспекте трансформации массовых представлений о прошлом. С. Бернстайн и А. Заплатина указывают на преимущества и недостатки мнемонических цифровых проектов: упрощенный доступ к исторической информации и непродолжительность хранения данных соответственно6. Д. С. Артамонов и С. В. Тихонова ставят вопрос о депрофессионализации исторического знания в условиях цифрового пространства и вводят термин «хисторихакинг» для обозначения «цифровых способов производства исторического контента для выражения собственной версии исторической правды, формирования исторической реальности, самореализации и развлечения»7.
Отечественные авторы специализируются на темах, связанных с социальной памятью, спецификой региональных нарративов и самоидентификации социальных групп. В коллективной монографии О. Ю. Малиновой и А. И. Миллера исследуется интеграция этих групп в общероссийскую «рамку памяти» через взаимодействие региональных и федеральных мнемонических акторов8.
Г. И. Осадчая и Е. Ю. Киреев фокусируются на изучении социальной памяти о советском прошлом среди молодежи (поколения «миллениалов») постсоветских регионов, определяя эту память как «совокупность массовых обыденных представлений... о советском прошлом» [15], не оказывающие существенного влияния на повседневную жизнь, но имеющие манипулятивный потенциал, который может использоваться в своих целях политическими силами [15].
Напротив, опираясь на данные опросов, проведенных Высшей школой экономики, В. А. Касамара делает вывод о доминирующем значении институциональных источников социальной памяти поколения Z. Гордость историей страны считают признаком истинного патриотизма более половины молодежи, но способность подкрепить этот ответ конкретными знаниями зависит «от двух факторов: роли учителя и выбрал ли школьник историю в качестве предмета, по которому будет сдавать ЕГЭ» [16]. Преподавание отечественной истории в школах, по мнению автора, недооценивается, и это является препятствием для формирования патриотизма у молодежи.
Негативные последствия недостаточного внимания к преподаванию истории России в системе отечественного образования были выявлены в мониторинговом исследовании по изучению исторической памяти студенческой молодежи, проведенном под руководством Ю. Р. Вишневского с 2005 по 2020 г. на базе Российского общества социологов. Анализируя данные исследования, И. А. и И. Л. Грошевы отмечают влияние пропаганды «декоммунизации» по негосударственным каналам на переоценку ключевых событий и фрагментацию исторических компонентов гражданской идентичности студенчества, констатируя «скрытую борьбу за умы молодого поколения» [17]. Г. С. Широкалова на той же эмпирической базе отмечает «две ключевые тенденции в развитии общественного сознания и поведения молодых россиян»: «патриотическую» и «космополитическую» [18].
Таким образом, существует большое количество отечественных исследований, посвященных исторической памяти современной российской молодежи [19]9, в том числе проведенных в Республике Мордовия [20–22], в которых выявлены такие ее характеристики, как непосредственная связь с общероссийской идентичностью и патриотизмом, фрагментированность вследствие гипермедиации, значительная роль институциональных факторов формирования и дефицит исторических знаний, формируемых средней школой. Однако вопросы вовлеченности в пространство исторических практик и нарративов, соотношения различных факторов, оказывающих совокупное воздействие на процесс конструирования исторической памяти учащейся молодежи на примере регионального социума, еще не рассматривались.
Новизна использованных подходов и методов заключается в комплексном исследовании на основе смешанных социологических данных источников формирования исторической памяти в молодежной среде, структурирование учащейся молодежи по степени вовлеченности в исторические практики и нарративы, а также выявление социальных факторов, влияющих на этот процесс.
Материалы и методы
Теоретической рамкой исследования выступает конструктивистский подход, при разработке инструментария мы опирались на труды И. Ирвин-Зарецкой, рассматривающей термин «социально-культурная инфраструктура памяти», включающая публичные мероприятия, праздники, произведения литературы, кино и др.10
Под исторической памятью в данной статье мы понимаем совокупность представлений учащейся молодежи об историческом прошлом, сформированных профессиональными историками и неакадемическими акторами на основе конвенциональных социальных норм («рамок памяти») как на институциональном (государство, образование, семья, средства массовой коммуникации и др.), так и на индивидуальном уровнях.
В качестве эмпирической базы использованы:
-
1. Данные 20 полуформализованных интервью, которые были взяты в июле 2023 г. в рамках пилотажного этапа качественного исследования (проведена апробация инструментария для дальнейшей работы по проекту). В исследовании приняли участие молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, проживающие на территории Мордовии. Опрошены 7 юношей и 13 девушек, средний возраст информантов - 21 год. Продолжи -тельность каждого интервью составила порядка 30 мин. Все информанты были проинформированы о цели исследования и выразили готовность (согласие) к сотрудничеству.
-
2. Результаты анкетного опроса, проведенного в мае 2023 г. Объем выборочной совокупности составил 700 чел., это студенческая молодежь Республики Мордовия в возрасте от 18 до 25 лет, из них 557 чел. – уроженцы Мордовии. Выборка многоступенчатая комбинированная. На первом этапе выборка разделена по типу учебного заведения (высшее или среднее специальное образование). Студенты вузов
(357 чел.) отобраны целенаправленно по профилю обучения, а студенты ссузов (343 чел.) – по типу населенного пункта (город или село). Респонденты рекрутированы через учебные заведения. Контрольные социально-демографические параметры (пол, возраст, национальность) отличались от данных статистики не более, чем на 5 %, что позволяет считать эту выборку репрезентативной относительно генеральной совокупности. Чтобы повысить репрезентативность данных, результаты были перевзвешены в соответствии с данными Мордовиястата за 2022 г.
Результаты опроса были проанализированы с использованием программного пакета IBM SPSS Statistics 21 и методов описательной и многомерной статистики.
Результаты исследования
Пространство исторических практик и нарративов включает инфраструктуру и активности по производству исторической памяти (учебные заведения, музеи, кинематограф, средства массовой коммуникации, исторические кружки, движения, тематические мероприятия, праздники, воспоминания членов семьи, архивные документы, научная литература и др.).
Используя метод k-средних11, мы провели кластеризацию респондентов на основе ответов об источниках информации российской истории. В результате было получено три кластера (три группы), различающихся по многообразию используемых источников информации, другими словами – по уровню вовлеченности в исторические практики и нарративы. Также выявлены три группы студентов: с высоким (20 %), средним (33 %) и низким (47 %) уровнем вовлеченности (табл. 1).
У представителей трех групп были выявлены статистически значимые различия по полу, уровню образования, а также месту проживания до поступления в учебное заведение (город/село). В частности, в группе с высоким уровнем вовлеченности в исторические практики и нарративы преобладают студенты высших учебных заведений (62 % против 51 % в среднем по выборке), городские жители (73 % против 69 %). В группе со средним уровнем вовлеченности больше девушек (55 % против 47 %). В группе с низким уровнем вовлеченности больше юношей (58 % против 53 %), студентов средних профессиональных учебных учреждений (55 % против 49 %) и сельских жителей (37 % против 31 % соответственно).
Т а б л и ц а 1. Распределение ответов на вопрос «Из каких источников Вы в основном получаете информацию об истории России?» в зависимости от уровня вовлеченности в исторические практики и нарративы, % от общего числа опрошенных
T a b l e 1. Distribution of answers to the question “From what sources do you mainly get information about the history of Russia?” depending on the level of engagement in historical practices and narratives, % of the total number of respondents
11 Оценка количества кластеров первоначально проводилась с помощью иерархического кластерного анализа методом Варда.
Окончание табл. 1 / End of table 1
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Тематические мероприятия / Thematic events |
74 |
24 |
23 |
30 |
|
Архивные документы, научная литература / Archival documents, scholarly literature |
71 |
18 |
13 |
30 |
|
«Новые медиа» / “New media” |
63 |
40 |
32 |
44 |
|
Научно-популярная литература, нон-фикшн / Non-fiction |
58 |
16 |
15 |
28 |
|
Исторические кружки, движения / Historical groups, movements |
42 |
12 |
9 |
19 |
|
Путешествия, поездки / Travel, trips |
32 |
9 |
8 |
12 |
|
Итого / Total |
754 |
372 |
235 |
387 |
Источник : здесь и далее в статье все таблицы составлены авторами. Source : Hereinafter in this article all tables were drawn up by authors.
Рассмотрим вклад различных институтов в конструирование исторической памяти респондентов из трех выявленных групп.
Уроки истории . Как видно из таблицы 1, учебники и уроки истории являются одним из основных источников исторических знаний для всех трех категорий опрошенных. Именно в школе учащиеся получают первое систематизированное представление о прошлом. Иногда институт образования оказывается едва ли не единственным агентом исторической социализации: «Ну, во-первых, это школьные уроки истории, история России и все такое… Потом в универе была история. Там, может быть, какие-то интересные факты чисто вычитывала. Но не сказала бы, что мне это вообще было прям интересно читать, в плане того, что это не то, чем я увлекаюсь. В целом, наверное, только уроки истории» (Инф. 19, девушка, 19 лет). (Здесь и далее орфография и пунктуация ответов респондентов сохранены. – Ред .).
Формирование исторических знаний и представлений во многом зависит от педагогического таланта преподавателя в школе. Согласно данным опроса, те из респондентов, кому нравились уроки истории в школе, чаще проявляют интерес к истории и в настоящее время (30 % против 18 % тех, кому школьные уроки истории не нравились).
Респонденты из группы с высоким уровнем вовлеченности в исторические практики и нарративы чаще отмечали, что им нравились уроки истории в школе
(81 % против 72 % в среднем по массиву), и они очень интересуются историей страны (37 % против 27 % в соответственно). В группе с низким уровнем вовлеченности, напротив, больше тех, кому уроки истории не нравились. В данной группе большинство респондентов из сельской местности, что является следствием проблем в организации исторического образования и воспитания в сельских школах.
Следует отметить, что школа как базовый институт первичной социализации в силу своих функций вовлекает в образовательный и воспитательный процесс целый ряд агентов и институтов исторической памяти: музеи, общественные организации, тематические мероприятия, средства массовой коммуникации, семью. «В школе просили посмотреть, кто из родственников участвовал в ВОВ, мне самому это интересно было. Был такой специальный сайт, где можно было узнать, найти родственников. …Но истории узнавал в основном от бабушки, царствие ей небесное, и от дедушки, потому что, понятно, что там не только награды, медали, заслуги и звания. Больше всего узнавал так: нашел медаль – спрашиваю у бабушки и дедушки: “А за что [она]?”. У мамы тоже спрашивал, но у бабушки лучше спросить… больше помнит об этом» (Инф. 7, юноша, 18 лет); «Также являясь …волонтером в школьные годы, я узнал много от разговоров с бабушками и дедушками, которые прошли ту же самую, к примеру, Великую отечественную войну» (Инф. 10, юноша, 21 год).
Таким образом, сформированный в школе познавательный интерес к истории может выступать фактором, оказывающим позитивное влияние на конструирование исторической памяти у молодежи.
Семейная память. Необходимо подчеркнуть, что семейные воспоминания – это прежде всего устная коммуникация, когда информация передается от одного поколения к другому. Важную роль в такой коммуникации играют сохранившиеся семейные архивы, реликвии, артефакты («овеществленная память») и семейные практики коммеморации («память в действии»), которые служат стимулом для общения и создания насыщенных эмоциями семейных исторических повествований. Данные опроса показывают, что 36 % респондентов обладают высоким уровнем семейной памяти – они знают о наличии семейных артефактов и участвуют в семейных коммеморациях12. Следует заметить, что в кластере наиболее вовлеченных в исторические практики и нарративы доля респондентов, кто указал большой интерес к истории своей семьи (стремление собирать информацию), составила 67 %, по сравнению с 56 % в среднем по массиву. Наличие семейных артефактов и практик коммеморации положительно влияет на интерес молодежи к истории России и на знание о семейных событиях в этой истории: «Историю своей семьи очень любила рассказывать бабушка. Когда мы приходили к ней в гости, в детстве, и потом уже, во взрослой жизни, она доставала свою шкатулку, где она хранила всевозможные письма, записки, фотографии, и, перебирая, нам все это рассказывала» (Инф. 12, девушка, 24 года); «Главный источник информации – это рассказы родственников, также это архивные данные, фотографии, какие-то записи… Один из моих прадедушек писал стихотворения, некоторые родственники вели дневниковые записи. Да, они до сих пор сохранились. Они содержатся в отдельной коробочке, скажем так. Вот. Иногда открываем, читаем, вспоминаем» (Инф. 17, девушка, 19 лет); «Довольно забавно, но у нас кто-то из [называет фамилию] заказал целое древо, которое чуть ли не … в какой-то 1800 год гуляет… и ДНК-тест. Там оказалось, вообще-то, что мы из Африки в Японию уехали, а из Японии пришли сюда…» (Инф. 6, юноша, 22 года).
Трагические события российской истории в ХХ в. часто способствовали нарушению каналов коммуникации и разрыву семейных связей. В результате утрата семейной памяти происходила как по объективным причинам (смерть, развод), так и по субъективным, когда воспоминания о трагических событиях для семьи специально предавались забвению, умалчиванию старшими родственниками (о травмирующих событиях большинство вспоминать не любят, чаще рассказывают что-то смешное или хорошее): «Отец ничего не знает ни про своего деда, ни про своего прадеда… он очень рано потерял свою мать, а с отцом были плохие отношения… поэтому наша семейная история затерялась» (Инф. 13, юноша, 22 года); «Я с этим столкнулась, когда хотела разузнать больше информации… по поводу участников Великой Отечественной войны в нашей семье. И вот тогда мне сказали, что сохранилось очень мало информации об этом, так как солдаты, которые пришли с фронта, не любили что-то говорить о событиях военного времени» (Инф. 16, девушка, 19 лет).
Современная молодежь знает историю семьи только на глубину двух-трех поколений. Могут однозначно ответить (да/нет) на вопрос о том, есть ли среди прародителей люди, получившие государственные награды в ХIX–XX вв. – 50 %; раскулаченные, сосланные или лишенные гражданских прав – 41 %; участники войн ХХ–ХХI вв. – 70 %.
Художественная литература, кино-и телефильмы . Художественные произведения играют важную роль в установлении эмоциональной связи с прошлым – создавая яркие образы исторических событий и персонажей, они позволяют лучше понимать историю и культуру своей страны. Для 33 % респондентов (представители второй группы) это главный источник получения исторической информации (табл. 1). Согласно данным опроса, в топ-10 исторических фильмов вошли: «Т–34» (54 %), «Движение вверх» (40 %), «Легенда № 17» (36 %), «Петр I: последний царь и первый император» (29 %), «Екатерина (взлет)» (21 %), «Годунов» (20 %), «Союз Спасения» (19 %), «Вызов» (18 %), «Нюрнберг» (16 %), «Анна Каренина» (16 %). Интересно, что два популярных фильма, вошедших в тройку лидеров, рассказывают о спортивных достижениях времен Советского Союза. Это может указывать на то, что спортивный исторический нарратив становится все более важным в процессе конструирования исторической памяти в молодежной среде.
Практики коммеморации . Праздники являются неотъемлемой частью пространства исторических практик и нарративов, оказывающих влияние на конструирование памяти прошлого. К наиболее значимым российским праздникам, которые объединяют россиян, опрошенная молодежь отнесла День Победы (85 %), Новый год (71 %) и День России (66 %), причем в рейтингах в группах с высоким и средним уровнем вовлеченности в пространство исторических практик и нарративов День России оказался популярнее Нового года.
Следует заметить, что, по сравнению с данными опроса, проведенного в 2019 г. [21], частота упоминаний праздника День России заметно выросла (с 36 до 66 % соответственно). Данный факт можно объяснить изменением информационного нарратива в связи с геополитической ситуацией и проведением специальной военной операции, что способствовало консолидации всего российского народа и молодежи в том числе вокруг значимых для России символов.
Респондентам был задан вопрос «Кто из исторических деятелей и деятелей науки и культуры является символом России?».
В группе с высоким уровнем вовлеченности в исторические практики и нарративы топ-5 выглядит следующим образом: Гагарин (86 %), Петр I (84 %), Пушкин (76 %), Ломоносов (69 %), Кутузов (69 %). Во второй группе: Гагарин (70 %), Петр I (67 %), Пушкин (62 %), Сталин (52 %), Ломоносов (50 %). В третьей группе: Петр I (56 %), Пушкин (53 %), Гагарин (52 %), Сталин (43 %), Ленин (39 %). Как видно из представленного перечня, репрезентация исторических фигур во всех трех кластерах одинаковая, что указывает на наличие общего символического пространства у опрошенной молодежи.
« Новые медиа » . Согласно результатам опроса, новые медиа выступают третьим по значимости источником (44 %) исторической информации (табл. 1). В то же время хотя большинство представителей всех трех групп «что-то слышали» о каких-либо интернет-проектах, посвященных истории нашей страны, знают и могут их назвать лишь немногие: 9 % – в первой группе, 5 % – во второй и 4 % – в третьей (табл. 2). Были названы проекты «Цифровая история» (7 упоминаний), «Arzamas» (5) и канал К. Жукова (3). Наиболее известные авторы-ведущие на исторические темы – К. Жуков (8 упоминаний), Е. Яковлев (7) и С. Минаев (4).
Можно предположить, что получение исторической информации в социальных медиа в молодежной среде носит скорее случайный характер, поскольку используются они в первую очередь для отдыха и коммуникаций. Об этом же говорят данные полуструктурированных интервью: «Иногда попадаются видеоролики машинально, вот как-то охота именно узнать эту тему и, к примеру, посмотреть. На разные темы такие были видео. На самом деле, некоторые что-то интересное, вот что-то ты прям с энтузиазмом смотришь, думаешь, а еще, а еще бы узнать» (Инф. 5, девушка, 19 лет); «В игре, в которою я играл, основанную на реальных событиях, рассказывают про Англию 11–12 веков, а сейчас там сюжет про Русь, было про Куликовскую битву. Понятное дело – игра, там что-то меняли, но мне было очень интересно про засаду конницы, которую сделал Дмитрий Третий… Дмитрий же? Ой, Иван Третий» (Инф. 7, юноша, 18 лет).
Т а б л и ц а 2. Распределение ответов на вопрос «Знаете ли Вы о каких-нибудь интернет-проектах, посвященных истории нашей страны?» в зависимости от уровня вовлеченности в исторические практики и нарративы, % от общего числа опрошенных
T a b l e 2. Distribution of answers to the question “Do you know about any Internet projects dedicated to the history of our country?” depending on the level of engagement in historical practices and narratives, % of the total number of respondents
|
Ответы респондентов / Respondentsʼ answers |
Уровень вовлеченности / Engagement level |
В среднем по массиву / On average for the data |
||
|
Высокий / High |
Средний / Average |
Низкий / Low |
||
|
Не знаю / I don’t know |
11 |
21 |
35 |
25 |
|
Что-то слышал(а), но конкретный пример не приведу / I heard something, but I can’t give a specific example |
80 |
74 |
61 |
70 |
|
Да, знаю и могу назвать / I know and I can list it |
9 |
5 |
4 |
5 |
|
Итого / Total |
100 |
100 |
100 |
100 |
Таким образом, в новых медиа интерес к истории формируется чаще всего случайно (например, через компьютерные игры с соответствующей сюжетной линией или через всплывающую информацию в ленте), но этот интерес оказывается достаточно результативным в плане формирования исторических знаний и представлений.
Обсуждение и заключение
Настоящее исследование показало, что высокая вовлеченность в пространство исторических практик и нарративов выявлена только у 20 % студенческой молодежи. Для этой категории характерны широкое разнообразие исторического контента, высокая представленность специализированной, профессиональной информации (архивы, музеи). 33 % респондентов демонстрируют «фоновую» вовлеченность, вызванную ситуативным интересом к прошлому (художественные фильмы, книги, компьютерные игры). Однако доминирующая часть (47 %) обладает сравнительно скудными представлениями об исторических событиях и персонажах, основанных на остаточных знаниях школьной программы.
На уровень вовлечения молодежи в пространство исторических практик и нарративов влияют разные факторы: социально-демографические различия по полу, уровню образования, месту проживания до поступления в учебное заведение, сформированный в школе интерес к истории страны, семейная память и коммуникация поколений, просмотр исторических фильмов, активное использование медиатехнологий и др. Вес и значение этих факторов в конструировании исторической памяти молодежи различны.
Наиболее значимым фактором вовлеченности студенческой молодежи в пространство исторических практик и нарративов ожидаемо оказался уровень образования: чем выше образование, тем более разнообразны источники получения исторической информации, более выражен интерес к истории страны.
Результаты исследований еще раз подтвердили тезис о том, что благодаря цифровым медиатехнологиям процесс конструирования исторической памяти становится менее централизованным и более индивидуальным, появляются новые способы упорядочивания исторических данных, в первую очередь, в цифровой среде. В связи с этим на новом уровне актуализируется вопрос истинности транслируемых ими исторических знаний.
Полученные данные расширяют научные представления о процессах, лежащих в основе конструирования исторической памяти. В дальнейшем исследовании нуждаются анализ цифровой и медиапамяти молодежи применительно к различным медиаресурсам и цифровым порталам публичной истории, выявление пользовательских сообществ, ориентированных на историческую тематику.
Материалы статьи могут представлять интерес для специалистов, занимающихся вопросами патриотического воспитания, исторического образования молодежи, практиков, участвующих в разработке молодежной политики.
Список литературы Студенческая молодежь в пространстве исторических практик и нарративов (региональный аспект)
- Кознова И. Е. Историческая память и основные тенденции ее изучения // Социология власти. 2003. № 2. С. 23-34. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskaya-pamyat-i-osnovnye-tendentsii-ee-izucheni-ya/viewer (дата обращения: 20.07.2023).
- Румянцева М. Ф. Историческое знание и историческая память в структуре исторической культуры // Диалог со временем. 2019. № 67. С. 41-54. https://doi.org/10.21267/AQUIL0.2019.67.30830
- Ракачев В. Н., Ракачева Я. В., Сергеев В. Н. Историческая культура: к вопросу теоретического осмысления феномена в зарубежной и отечественной науке // Южно-российский журнал социальных наук. 2021. Т. 22, № 2. С. 124-142. https://doi.org/10.31429/26190567-22-2-124-142
- Горин Д. Г. Историческая идентичность в контексте политемпоральности современной культуры // Культура и образование. 2015. № 4 (19). С. 35-41. EDN: TFZOZW
- Репинецкая Ю. С. К вопросу о содержании понятий «историческое сознание» и «историческая память» // Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 1. С. 147-151. https://doi.org/10.17816/snv201761214
- Olick J. K., Sierp A., Wustenberg J. Introduction: Taking Stock of Memory Studies // Memory Studies. 2023. Vol. 16, issue 6. P. 1399-1406. https://doi.org/10.1177/17506980231207934
- Головашина О. В. Memory studies в поисках эпистемологических оснований // Социология власти. 2022. Т. 34, № 1. С. 8-17. https://doi.org/10.22394/2074-0492-2022-1-8-17
- Олик Д., Хлевнюк Д. Фигурации памяти: процессо-реляционная методология, иллюстрируемая на примере Германии // Социологическое обозрение. 2012. Т. 11, № 1. С. 40-74. URL: https://sociologica.hse. ru/data/2012/06/05/1252356367/11_1_03.pdf (дата обращения: 20.07.2023).
- Warburg A., Rampley M. The Absorption of the Expressive Values of the Past // Art in Translation. 2009. Vol. 1, issue 2. P. 273-283. https://doi.org/10.2752/175613109X462708
- Erll A. Travelling Memory // Parallax. 2011. Vol. 17, no. 4. P. 4-18. (In Russ., abstract in Eng.) https:// doi.org/10.1080/13534645.2011.605570
- Сафронова Ю. А. Третья волна memory studies: Двадцать три года против шерсти // Политическая наука. 2018. № 3. С. 12-27. URL: https://www.politnauka.ru/jour/article/view/640 (дата обращения: 20.07.2023).
- Артамонов Д. С. Медиапамять: теоретический аспект // Galactica Media: Journal of Media Studies. 2022. Vol. 4, no. 2. P. 65-83. https://doi.org/10.46539/gmd.v4i2.269
- Rigney A. Articulations of Memory: Mediation and the Making of Mnemo-Regions // Regions of Memory: Transnational Formations ; ed. by S. Lewis [et al.]. Cham: Palgrave Macmillan Memory Studies, 2022. P. 163-184. https://doi.org/10.1007/978-3-030-93705-8_7
- Hoskins A. Digital Memory Studies: Media Pasts in Transition. New York: Routledge, 2018. 326 p. https://doi.org/10.4324/9781315637235
- Осадчая Г. И., Киреев Е. Ю. Социальная память молодежи государств - участников евразийской интеграции: теоретическая модель социологического анализа // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Сер.: Социальные науки. 2020. № 3 (59). С. 70-78. URL: http://www.unn.ru/pages/e-library/vestnik_soc/18115942_2020_-_3(59)_unicode/9.pdf (дата обращения: 20.07.2023).
- Касамара В. А. Многогранный патриотизм: от концепции к исследованию молодежных представлений // Журнал социологии и социальной антропологии. 2023. Т. 26, № 3. С. 201-233. https://doi. org/10.31119/jssa.2023.26.3.8
- Грошева И. А., Грошев И. Л., Грошева Л. И. Коллективная память студенческой молодежи в эпоху постмодерна // Siberian Socium. 2020. Т. 4, № 3. С. 33-48. https://doi.org/10.21684/2587-8484-2020-4-3-33-48
- Широкалова Г. С. Историческая память о Великой Отечественной войне: причины плюрализма // Вестник Института социологии. 2021. Т. 12, № 2. C. 19-35. https://doi.org/10.19181/vis.2021.12.2.709
- Широкалова Г. С. Историческая память молодежи: село vs город // Социологические исследования. 2020. № 9. С. 28-37. https://doi.org/10.31857/S013216250010005-8
- События прошлого в исторической памяти молодежи национальных регионов Приволжского федерального округа / С. В. Полутин [и др.] // Регионология. 2021. Т. 29, № 1. С. 191-215. https://doi. org/10.15507/2413-1407.114.029.202101.191-215
- Дадаева Т. М. Образование, историческая память и гражданская идентичность: векторы влияния (на примере студенческой молодежи вузов и ссузов Республики Мордовия) // Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. 2020. Т. 20, № 1. С. 41-60. https://doi.org/10.15507/2078-9823.049.020.202001.041-060
- Шумкова Н. В. Конфликтующие нарративы в исторической памяти современной российской молодежи // Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2019. № 4. С. 145-155. URL: http://niign.ru/nauchnie-jurnaly/vestnik-niign-4,2019.pdf (дата обращения: 20.07.2023).