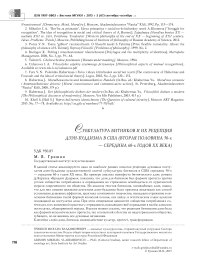Субкультура битников и их рецепция дзэн-буддизма в США (вторая половина 50-х - середина 60-х годов ХХ века)
Автор: Гришин Михаил Владимирович
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 5 (67), 2015 года.
Бесплатный доступ
В данной статье анализируется одна из наиболее ранних попыток рецепции духовных постулатов дзэн-буддизма художественной элитой субкультуры битников в США середины 50-х - середины 60-х годов ХХ века. На примере анализа манифеста битнического дзэн: романа Д. Керуака «Бродяги Дхармы», показано, что дзэн для битников был формой протеста против устоев «общества потребления» и оправданием их стремления освободиться от пуританской морали современного им общества. Из анализа текстов битников, посвящённых дзэн, видно, что для них самыми важными аспектами дзэн-буддизма были практика медитации как способ успокоения душевных аффектов, практика спонтанного творчества, нашедшая отражение в увлечении битниками такой формой японской поэзии, как хайку, в эстетическом плане целиком основанной на постулатах дзэн. При этом отвержение ценностей «общества потребления» сочеталось в их жизненной практике с отрицанием, находящим своё оправдание в якобы дзэнских постулатах, общепринятой морали. В целом можно сказать, что рецепция битниками дзэн была как формой неполитического протеста, так и попыткой к бегству из индустриального общества, губящего, по их мнению, все духовные начинания.
Дзэн, битники, взаимодействие культур, протест, трансформация
Короткий адрес: https://sciup.org/144160505
IDR: 144160505 | УДК: 930.85
Текст научной статьи Субкультура битников и их рецепция дзэн-буддизма в США (вторая половина 50-х - середина 60-х годов ХХ века)
Художественная субкультура и соответствующее движение в поэзии и частично в романе, получившая название «битников» (от англ. Beat — ‘удар; барабанный бой; биение сердца’), возникла в сШа в начале 50-х годов ХХ века. историки культуры называют её ещё «сан-Францисским возрождением» и рассматривают как экзистенциальное и художественное протестное движение против сложившегося в сШа «общества потребления». в частности, битники сознательно отвергали, во-первых, те культурные нормы и ментальные стереотипы американской культуры, которые определялись безудержной жаждой увеличения материального комфорта и наживы, а во-вторых, сформировавшуюся ещё у истоков американской культуры и опиравшуюся на формы пуританской этики мораль.
в данной статье будет рассмотрен только один из аспектов внеполитических форм протеста представителей движения битников, который находил оправдание и культурный прецедент шокирующему добропорядочных американских обывателей образу жизни в духовных формах буддизма дзэн. дзэн был импортирован сначала в европу уже в первой четверти ХХ века, а в 40-е годы попадает в сШа, где его рецепция движением битников превращает его не просто в объ- ект ис сле до ва ний спе циа ли стов-буд до ло гов, но в значимый факт сначала американской, а потом и всей западной культуры ХХ века. в основном первое знакомство с дзэн-буддизмом на Западе произошло благодаря трудам самобытного японского философа ХХ века д. т. суд зу ки (1870—1966), на зы вае мо го в кругах востоковедов несколько пренебрежи-тель но «по пу ля ри за то ром дзэн».
в свою очередь, один из ведущих аналитиков движения так называемой контркультуры в сШа и европе т. рошак (Roszak) в работе «истоки контркультуры» (первое издание 1968) видит начало увлечения битниками дзэн-буддизмом во влиянии духовных лидеров этого движения (куда входили признанные ныне классиками американской поэзии и ро ма ни сти ки а. гинз берг, д. Ке ру ак, л. Фер-лин гет ти, Ф. уэй лен и дру гие). во-пер вых — поэта гэри снайдера, свободно владевшего японским и китайским языками, переводившего на английский стихи дзэнского «безумного» поэта IX века Хань Шаня и неоднократно ездившего в Японию и подолгу изучавшего практику дзэнской медитации в монастырях Киото. вот как об этом пишет т. рошак: «если верить джеку Керуаку в “бродягах дхар мы” (1956) (кни га-ма ни фест “дзэн ско-го” образа жизни, практикуемого битниками, о которой речь пойдёт ниже. — М. г.), книге, где впервые появились известные афоризмы дзэн-буддизма, которые наша молодёжь с тех пор знает лучше христианского катехизиса, — они с а. гинзбергом узнали о дзэн-буддизме от поэта с Западного побережья гэри снайдера, когда в начале 50-х приехали в сан-Франциско. снайдер к тому времени уже нашёл свой дао, основанный на принципах дзэна — бедности, простоте и медитации… Кроме снайдера, был ещё и алан уоттс, который начал преподавать в школе изучения азии в сан-Франциско, оставив пост англиканского духовного наставника в североЗападном университете. К этому времени уоттс, ко то ро му в 1950 го ду бы ло все го тридцать пять лет, уже был автором семи книг о дзэн-буддизме и мистической религии, первая из которых вышла в 1935 году. Это был вундеркинд в своей области. в девятнадцать лет его назначили редактором “срединного пути”, английского журнала об исследованиях буддизма, а в двадцать три он стал соредактором английского сериала “Мудрость вос то ка”. вме сте с дай се цу т. суд зу ки уоттс посредством телевизионных лекций, книг и частных уроков стал главным популяризатором дзэн-буддизма в америке. большинство из того, что американская молодёжь знает об этой религии, пришло от одного из этих учёных и от поколения писателей и художников, на которых они оказали влияние. Я считаю влияние уоттса более широким: рискуя впасть в вульгаризацию, он совершил смелую попытку перевести уникальные откровения дзэн-буддизма и даосизма на язык западной науки и психологии» [3, с. 198—199].
если обобщить причины глубочайшего интереса битников к дзэн-буддизму, вплоть до попыток воплощения постулатов дзэн в повседневном образе жизни и в художественном творчестве, то таких причин в первом приближении можно выделить несколько. во-первых, нежелание сотрудничать с государственной системой и корпорациями, управл яе мы ми «эф фек тив ны ми ме нед же рами», и принимать ту потребительскую, глу- боко материалистическую концепцию жизни, предлагаемую американскому обществу правя щей вер хуш кой «тех но кра тов».
им претила сама фундаментальная идея ме-нед же ров-«тех но кра тов» о воз мож но сти рационального контроля, основанного на строго логических операциях, как общества в целом, так и индивидов, который в американском варианте базировался не на силовом принуждении, а на внедрении в сознание обывателей, поделённых маркетологами на целевые группы, привлекательных потребительских моделей, находивших опору в американском общест ве изо би лия.
отсюда одновременно и отказ битников сотрудничать с потребительским обществом, ограничиваясь в материальном плане только самым необходимым, и интерес к дзэнскому отрицанию возможности рассудочного познания мира и своей внутренней сути, отвержению всяких внешних авторитетов, будь то христианская традиция или корпоративный ме недж мент.
битников в дзэн привлекала опора на надрациональные резервы человеческой психики, в первую очередь активизация с помощью дзэнских психотехник глубинной интуиции, скрытой напластованиями Ratio, прорыв к которой, как считали битники, даст возможность перейти от искусства, постоянно соотносимого с чувственной реальностью, к творчеству, основанному на спонтанности, когда глубинная интуиция художника рождает произведение искусства в акте мгновенного озарения, а не в результате долгой и кропотливой ра бо ты.
в связи с этим битники, в первую очередь д. Ке ру ак, г. снай дер, Ф. уй э лен, пы та лись обновить западную поэзию с помощью рецепции японских трехстиший хайку (или хокку), со сто яв ших в ори ги на ле все го из 17 сло гов (5 + 7 + 5), образная система которых опиралась в своих лучших образцах на акт мгновенно го «про свет ле ния» — са то ри.
Формы и суть рецепции дзэн субкультурой битников нашли своё наиболее яркое и востребованное американской молодёжью во- площение в уже упоминавшемся выше романе дже ка Ке руа ка «бро дя ги дхар мы» (1956).
Этот роман посвящён отражению в художественной форме как личного внутреннего опыта автора по погружению посредством дзэнской медитации в глубины того, что западный психоанализ называет «бессознательным», или «подсознанием», так и описанию внеш них форм «дзэн ско го» об раза жиз ни, который пытались практиковать битники в середине 50-х годов ХХ века.
Поскольку объем статьи не позволяет детально проанализировать все тонкости этого романа, остановимся на самых основных мотивах, позволяющих выявить культурные механизмы рецепции дзэн в сообществе бит-ни ков.
во-первых, «дзэнская» бедность, практикуемая битниками, резко контрастировала с теми социокультурными моделями, которые господствовали в среднем классе американского общества, уставшем от лишений великой депрессии и радостно принявшем те возможности материального процветания даже для тех слоёв общества, которые в более сложной экономической ситуации скорее относились бы к низам развитого индустриально го об ще ст ва.
битники, опираясь на постулаты дзэн, стремились отрицать те формы познания чужой, в данном случае японской, культуры, которые были основаны на включении «восточной эк зо ти ки» внутрь по тре би тель ской культуры, предлагающей постигать «восточную муд рость» и «вос точ ное ис кус ст во» по средством ‘tripov’ по местам, учителям и памятникам, ставшим для потребительского общества благодаря усилиям патентованных туристических компаний и культурных фондов «бренда ми» япон ской куль ту ры.
вот как об этом говорит один из главных героев романа поэт джефи райдер, отправляемый в Японию неким культурным фондом изучать дзэн непосредственно «на месте»: «единственное, что не по мне во всей этой истории с Японией, — тамошние американцы, даром что не дураки и хотят как лучше, совершенно не понимают ни америки, ни людей, которые здесь действительно врубаются в буддизм, — и ничего не смыслят в поэзии.
— Кто?
— ну, эти люди, которые посылают меня туда и всё оплачивают. они тратят кучу денег, чтобы обеспечить тебе элегантные сады, книги, японскую архитектуру и прочую муру, которая на фиг никому не нужна, кроме богатых разведённых американских туристок, а на самом деле единственное, что нужно — построить или купить обычный японский домик с огородиком, просто место, где люди могли бы спокойно зависать и заниматься буддизмом, а не оче ред ная аме ри кан ская по ка зу ха» [2, с. 258—259].
Культурная проблема взаимодействия христианской традиции и дзэн или, шире, буддизма, решалась битниками двойственно. некоторые, такие как джефи райдер (гэри снайдер), отвергали христианство как не отвечающее их душевному состоянию и представлению об истине, другие, такие как рэй смит (джек Керуак), пытались через дзэн, признающий только личный опыт познания истинной, или конечной, реальности, понятой не через рассудочные понятия, а пережитой всем своим существом, посредством нивелировки культовых различий найти истинную реальность в синтезе образов и интерпретаций конечной реальности, постигнув глубинную суть, равно присутствующую и в христианстве, и в буддизме.
«— да, хороша, — ответил он (джефи рай-дер. — М. г. ), — только не люблю я все эти шту ки на счёт ии су са.
— чем же тебе иисус не нравится? разве он не говорил о небесах? разве небеса — не то же самое, что нирвана будды?
— в твоей интерпретации, смит.
— джефи, я вот хотел объяснить рози разные вещи, и мне всё время мешала эта ересь, отделяющая буддизм от христианства, восток от запада, какая, черт подери, разница? Мы же ведь все на небесах, разве нет?
— Кто те бе ска зал?
— Мы же в нирване, или нет?
— в нирване и в сансаре одновременно.
— слова, слова, что значит слово?» [2, с. 189].
«— а ведь тебе Христос нравится, да?
— Конечно. и вообще, многие считают его Майтрейей, буддой, который, по предсказанию, последует за Шакьямуни, ты же знаешь, — “Майтрейя” на санскрите означает “любовь”, а Христос только о любви и говорил.
— рэй, только не надо мне христианство проповедовать, так и вижу, как ты на смертном одре целуешь крест, как Карамазов какой-нибудь, или как наш друг дуайт годдард — жил буддистом, а перед смертью вернулся в христианство. нет, это не для меня, я хочу каждый день часами медитировать в пустынном храме перед запертой статуей Каннон, которую никому не позволено видеть, ибо она обладает чрезмерной силой. бей сильнее, старый ал маз!» [2, с. 257].
герой романа Керуака рэй смит много думает о проблеме спасения. но он не принимает спасения так, как трактуют его ортодоксальные христианские конфессии: как разделение на «спасённое» меньшинство избранных (и редких праведников) и большую часть человечества, отделённую от бога «вечным проклятием» за свою греховность. для Керуака бли же буд дизм с его иде ей «спасённо сти» всего живого и даже «неживого», «Здесь и сей час». его ге рой рэй смит го во рит дже фи рай де ру:
«— Мне здесь хочется, знаешь, молиться, кстати, есть у меня одна молитва, знаешь какая?
— Ка кая?
— сижу и говорю, перебирая всех друзей, родных и врагов, одного за другим, без злобы и пристрастия, говорю: “джефи рай-дер, равно пуст, равно достоин любви, равно будущий будда”, потом, допустим, “дэвид о. селзник, равно пуст, равно достоин любви, равно будущий будда”, на самом деле я, конечно, не говорю “дэвид о. селзник”, только о людях, которых я знаю, потому что когда говоришь: “равно будущий будда”, хочется представлять себе их глаза, вот Морли, например, голубые глаза за очками, думаешь “равно будущий будда” — и представляешь себе эти глаза, и действительно вдруг видишь в них это тайное истинное спокойствие, и понимаешь, что он действительно будущий будда» [2, с. 154—155].
битники хотели обрести утраченное западной культурой эпохи модерна «освящение» мира, найти сакральное не в далёкой божественной трансценденции и лишённой божественного начала автономной этике, «выродившей ся» в со вре мен ной куль ту ре в «мо раль», они видели в дзэн-буддизме способ достижения «примирения» с телом и его потребностями и с миром, а также оправдание своей иллюзии относительно возможности жить в абсолютной свободе, сбросив с себя как идею «вины» и греховности, так и отказавшись от возможности «включения» в управляемую технократами «систему процветания», основанную на двух китах: престижном потреблении и беспощадной борьбе с ближними и дальними за саму возможность войти в круг «из бран ных» по тре би те лей.
оценивая дзэнский, как сейчас модно говорить, культурный проект битников, рос-сий ские и западные исследовате ли от ме-чают его глубоко двойственный характер. Как пишет исследователь рецепции японской дзэнской поэзии трехстиший — хайку в американской литературе середины ХХ века а. а. до лин: «ес ли ана ли зи ро вать эту по эзию, ныне уже ставшей хрестоматийной классикой американской литературы, с позиций ортодоксального востоковедения, то иначе как чудовищной мешаниной её не назовёшь. однако художественная одарённость таких поэтов, как лоуренс Ферлингетти, аллен гинзберг, джек Керуак, и социальный пафос протеста, заключённый в их “ориентально ориентированных” стихах, отчасти компенсирует поверхностное и зачастую превратное ис тол ко ва ние вос точ ной куль ту ры» [1, с. 119].
уже упоминавшийся в данной работе один из «столпов» пропаганды дзэн-буддизма в аме р и кан ской куль ту ре а. уоттс в ста тье «битнический дзэн, традиционный дзэн и дзэн» совершенно объективно оценивал феномен обращения к буддизму и в буддизм представителей молодой американской культурной элиты: «чужеземные религии могут оказаться откровением для тех, кто очень мало знает о традиционной религии своего народа, в особенности для тех, кто не разобрался с её предпосылками и не перерос своих юношеских столкновений с её проповедниками. вот почему несостоявшийся христианин, под соз на тель но ру ко во дствую щий ся сво им протестом против христианства, может попытаться найти опору в битническом дзэн или традиционном дзэн. ведь они ищут себе философию, которая оправдала бы их действия, тогда как другие — традицию, которая давала бы больше надежд на спасение, чем церковь или психотерапевты. Кроме того, оказывается, что атмосфера японского дзэн свободна от неприятных ассоциаций, которые у многих западных людей связаны с детскими воспоминаниями о боге-отце и иисусе Христе, — хотя я знаком со многими молодыми японцами, которые точно также относятся к своим ранним впечатлениям от буддизма. Как бы то ни было, глубинная суть дзэн едва ли откроется тому, кто не преодолел стремление находить оправдания своим действиям — перед господом богом или перед общественным мнением» [4, с. 273].
рассуждая о судьбах дзэн в американской культуре, можно сказать, что и в XXI веке он является частью психологических, психотерапевтических и, если брать шире, духовных практик американской интеллектуальной элиты. в определённом смысле можно сказать, что дзэн битников — это неинституционали-зированная форма протеста против технократического контроля и попытка не опосредованной влиянием профессиональных востоковедов рецепции этой формы буддизма не в виде интеллектуального анализа чисто теоретических постулатов ещё одной восточной религии, воспринятой американской культурой, а в качестве непосредственной жизненной практики, способствующей тотальному преображению личности и её отношения к ми- ру. но творческое начало, выраженное в попытках писателей и поэтов круга битников реализовать непосредственную дзэнскую экзистенцию, пусть и берущую своё начало в духовных кризисах американской культуры, из со вре мен но го ми ра уш ло.
лидеры «дзэнского образа жизни» в художественной элите битников в целом отошли от «дзэнских» протестных и эпатирующих «доб ро по ря доч но го» обы ва те ля прак тик своей молодости. некоторые из них «встроились» в религиозные институты, составляющие пёструю мозаику духовной жизни со-вре мен ной аме ри ки. так, по эт Ф. уэй лен в 1973 году принял сан дзэнского священника и в 1984 году стал главой монашеской общины «дхарма сангха» под именем унсуй дзншин рюфу в санте-Фе, штат нью-Мехико. в 1987 году он перешёл в орден «сюнрю судзуки» и в 1991 году стал настоятелем дзэн-буддийского храма на Хартфорд-стрит в санФран ци ско.
аме ри кан ские ху до же ст вен ные ин сти ту ты сумели включить битнический поэтический и духовный протест против «общества потребления» в органичную часть этого общества, сделав, например, поэта г. снайдера (бывшего почти что дзэнским «роси» — наставником для внимающих ему американских адептов) в 1975 году лауреатом Пулитцеровской премии за сборник стихотворений «черепаший остров» и предоставив бывшему бунтарю место преподавателя (которое он принял) в Калифорнийском университете. д. Керуак, чей ро ман «на до ро ге» стал ху до же ст вен ным манифестом битнического образа жизни и был включён в список 100 лучших книг на английском языке, провёл свои последние дни, так и не справившись с увлечением алкоголем, сопровождавшим его на протяжении всей его жизни, что привело его к ранней смерти в 1969 году — в возрасте сорока восьми лет.
в целом, подводя итог всему вышесказанному, можно утверждать, что для поэтов и писателей круга битников рецепция дзэн была «встроена» в достаточно чуждый — как творческому дзэн (кит. чань) времени его расцвета в эпоху танской династии в Китае, так и формализованной системе тренинга, основанной на жёсткой дисцип лине и иерархии традиционного японского дзэн, — контекст духовных порывов и принципов мировосприятия, порождённых внутренними конфликтами и запросами людей, воспитанных в лоне протестантской культуры америки. Эти писатели и поэты нашли в случайно открытых и не упорядоченных «корневой» традицией фрагментах учения дзэн, пропущенных сквозь интел-лек ту аль ную пе ре ра бот ку по пу ля ри за то рами этой религиозной практики, возможность «ссыл ки» на уже ут вер див ший ся в вос точ ной культуре прецедент абсолютной внутренней и внеш ней сво бо ды.
Список литературы Субкультура битников и их рецепция дзэн-буддизма в США (вторая половина 50-х - середина 60-х годов ХХ века)
- Долин А.А. Японская поэзия на Западе: перевод-стилизация-адаптация // Взаимодействие культур Востока и Запада: [сборник статей] / АН СССР, Научный совет по истории мировой культуры; [составитель А.А. Суворова]. Москва: Наука, 1987. С. 89-127.
- Керуак Д. Бродяги Дхармы. Москва: Просодия, 2002. 464 с.
- Рошак Т. Истоки контркультуры / [пер. с англ. О.А. Мышаковой]. Москва: АСТ, 2014. 380 с.
- Уотс А. Битнический дзэн, традиционный дзэн и дзэн // Дао - Путь воды / пер. с ангЛ.А. Мищенко. Киев: София, 1996. С. 244-275.