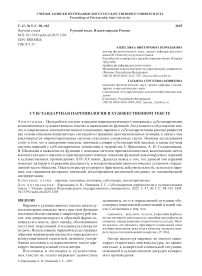Субстандартная паремиология в художественном тексте
Автор: Королькова А.В., Новикова Т.С.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Разноаспектный анализ паремиологических единиц языков народов России
Статья в выпуске: 5 т.47, 2025 года.
Бесплатный доступ
Цель работы состоит в анализе паремиологического материала с субстандартными компонентами в художественных текстах и выявлении их функций. Актуальность обусловлена тем, что в современных лингвокогнитивных изысканиях паремии с субстандартизмами рассматриваются как основа описания конфликтных ситуаций и отражение противоположных позиций, в связи с чем анализируется мировоззренческая система отдельных социальных групп. Новизна исследования стоит в том, что в диахронии описаны значимые словари субстандартной лексики, а также изучена система паремий с субстандартными элементами в творчестве З. Прилепина, А. И. Солженицына, В. Шаламова и выявлены их функции с помощью методов прагмалингвистики, включающих метод контекстуального анализа и прагмалингвистическое описание функций анализируемых паремий в художественных произведениях XIX–XX веков. Делается вывод о том, что данный тип паремий помогает авторам в отражении реальности, в воспроизведении аксиологических установок определенной части общества. Писатели реструктурируют фрагменты действительности, используя паремии для отражения авторских интенций, моделирования жизненной ситуации, их эмоциональной интерпретации.
Паремия, пословица, поговорка, субстандарт, лингвопрагматика
Короткий адрес: https://sciup.org/147250801
IDR: 147250801 | УДК: 811.33 | DOI: 10.15393/uchz.art.2025.1205
Текст научной статьи Субстандартная паремиология в художественном тексте
Паремии в художественных текстах используются авторами довольно часто, при этом функции пословиц обычно связаны с макроструктурой текста: они репрезентируют в образной форме основную его мысль, дают оценку, обосновывают поступки персонажей и индивидуализируют их речь. Использование паремий всегда отражает образное мировидение писателя и определено его коммуникативной стратегией, активное употребление пословиц в художественном тексте маркирует индивидуальный стиль автора.
Пословицы и поговорки в художественных текстах не только выражают ценностные
доминанты, но и в определенной ситуации обусловлены тематической композицией и идеей текста. Согласимся с тем, что
«ценность – результат, по сути, вторичной вербально-когнитивной деятельности, своеобразная рефлексия сознания, опосредованная стереотипом культуры. Можно сказать, что ценность проецирует социальный опыт на образ мышления, выступая в качестве элемента саморегуляции лингвоязыковой синергии» [7: 106].
Автор, используя паремии, во многом транслирует стереотипы лингвокультуры, но применительно к конкретной социальной ситуации, описанной в художественном дискурсе конкретного произведения.
Уточним традиционное понятие пословицы. Присоединяясь к авторитетному мнению В. М. Мокиенко, пословицей называем
«логически законченное образное или безoбразное изречение афористического характера, имеющее назидательный смысл и характеризующееся особой ритмической и фонетической организацией», поговорка «давно уже понимается как фразеологизм в узком смысле слова, включая и устойчивые сравнения» [6: 10].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материалом исследования послужили паремии с субстандартными компонентами, извлеченные приемом сплошной выборки из произведений А. И. Солженицына, В. Шаламова и З. Прилепина (37 единиц). Основным методом является прагмалингвистический, включающий в себя метод контекстуального анализа и прагма-лингвистическое описание. Цель работы – анализ использования паремий с субстандартными компонентами в художественных текстах.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБСУЖДЕНИЕ
Особые функции в художественном тесте выполняют пословицы, в которых используются субстандартные компоненты. Изучение субстандарта и его отражения в художественных текстах является актуальным, поскольку позволяет осмыслить социокультурные основы коммуникации.
История осмысления и анализа субстандартных единиц в русском языке имеет давнюю традицию. Первые исследования субстандартной лексики, фразеологии и паремиологии появились в XIX веке. Назовем «Русско-офенский словарь» и «Офенско-русский словарь» В. И. Даля1, где собраны лексические единицы из языка торговцев-коробейников офеней. В XX веке изучение субстандарта стало системным. Исследования касались прежде всего отдельных аспектов социолекта – жаргонов, арго, сленга [1], [2], [3]. Появилось значительное количество словарей жаргона и молодежного сленга. Первым словарем воровского жаргона стал словарь В. Трахтенберга «Блатная музыка. Жаргон тюрьмы», изданный в Санкт-Петербурге в 1908 году2. В нем собраны и истолкованы самые частотные лексические единицы воровского жаргона, описаны интересные факты жизни арестантов в тюрьмах, например «бекасиная охота» (ловля вшей) и пр. Словарь является первым научным изданием, поскольку тип словарной статьи создавался И. А. Бодуэном де Куртене (в нем – обширное введение; словарная статья включает помимо дефиниции этимологические пометы, указания на заимствованный характер лексемы); книга дает возможность оценить в исторической ретроспекции динамику развития лексики воровского жаргона.
Лексикографическим памятником является словарь Н. А. Смирнова «Cлова и выражения воровского языка, выбранные из романа Вс. Крестовского “Петербургские трущобы”», в котором не просто отражены лексические и фразеологические единицы из романа Вс. Крестовского: по сути, они репрезентируют большой пласт лексики воровского жаргона XIX века3. В некоторых случаях приводятся контексты из романа, в которых жаргонизмы являются частью пословиц. В «Петербургских трущобах» пословицы с субстандартными компонентами являются элементами, моделирующими коммуникативную ситуацию реальной модальности. Субстандартные компоненты паремий индивидуализируют речь персонажей, способствуют созданию предельно реалистического описания жизни социального дна Санкт-Петербурга XIX века. Например: « Тырка золотая = очень удачно произведенное воровство. “Ну, брат, чистота!^ Вот уж подлинно можно сказать, золотая тырка !”» 4.
К настоящему времени издано несколько десятков словарей жаргонов, молодежного сленга и арго. Среди самых больших по объему словника следует назвать «Большой словарь русского жаргона» В . М. Мокиенко и Т. Г. Никити-ной5; «Словарь блатного воровского жаргона» в двух томах Д. С. Балдаева6; «Толковый словарь молодежного сленга» Т. Г. Никитиной7. Уникальным в своем роде изданием стал словарь «Русский жаргон: Историко-этимологический словарь» М. А. Грачева и В . М. Мокиенко, в котором произведен диахронический анализ лексических единиц и выражений из русского арго, дано их толкование. Во Введении авторы отмечают:
«Русский, криминальный жаргон, или арго, – лексика криминальных элементов (преступников различных категорий, босяков, нищих, бродяг, беспризорников, проституток и проч.) складывался на протяжении длительного времени»8.
Между понятиями криминальный жаргон и арго ставится знак равенства.
В конце XX – начале XXI века появилось большое количество исследований в области терминологии социолектов. Уточнялись понятия жаргон, сленг, арго ; в активный научный оборот введены термины стандарт, субстандарт, нонстандарт .
Вопрос о сущности ряда терминов до настоящего времени остается непроясненным. З. Кёстер-Тома делает попытку упорядочить терминологию социальных исследований языка.
В частности, предлагается употреблять термин стандарт , в связи с тем что понятие литературный язык соотносится прежде всего с языком художественной литературы:
«Введение термина стандарт необходимо ввиду чрезмерной “привязки” термина “литературный язык” к понятию “язык литературы”, особенно условному в наши дни, когда стандарт создается во многом средствами массовой информации, а также иерархической коррелятивностью с его оппозитом нонстандартом в отличие от негативной отнесенности терминов нелитературная речь , просторечие , vulgar speech и т. п.» [4: 17].
В. Б. Быков отмечает, что стандарт – субстандарт следует противопоставлять по признаку «наличие – отсутствие облигаторной кодификации», при этом стандарт и субстандарт являются нормированными подсистемами национального русского языка, которые отличаются характером нормы, кодифицированной в стандарте и некодифицированной, узуальной в субстан-дарте9. При этом в некоторых исследованиях отмечается, что «некодифицированные, узуальные нормы субстандарта отражают субкультурные ценности»10.
В. М. Мокиенко употребляет термин субстандарт , включая в это понятие различные виды жаргонов (социальные и профессиональные), а также сленг и арго. В понимании субстандарта полностью поддерживаем его позицию, включая в него социальные и профессиональные жаргоны, сленг и элементы арго [5]. Расширенное толкование термина субстандарт является оправданным, поскольку дает возможность рассматривать лексику ограниченной сферы употребления как иерархически упорядоченную систему. Термин субстандарт в настоящее время является наиболее распространенным как родовое обозначение всех групп лексики с негативными характеристиками семантики и/ или стилистической окраски. Теоретические споры о сущности субстандарта в настоящее время перестали быть острыми, поскольку практически все современные ученые соглашаются с тем, что субстандарт – сложное языковое явление, репрезентирующее социальные варианты языка и речи.
В художественных произведениях XX века лексические единицы из различного вида жаргонов, арго, молодежного сленга являются значительными в количественном плане, хотя все зависит от тематики и коммуникативной цели автора текста. Писатели и поэты употребляют субстандартные языковые единицы в текстах в зависимости от идейно-смыслового содержания и собственных эстетических представлений.
Паремии с субстандартными лексемами являются специфическим средством описания действительности в художественном пространстве. Отметим, что паремиологический фонд любого языка включает в себя большое количество единиц с отрицательной коннотацией. Так, еще в XIX веке в словаре В. И. Даля «Пословицы русского народа», в словаре П. Симони «Памятники старинной русской лексикографии по руским рукописям XIII–XVIII стол» и пр. фиксируются паремии со стилистически сниженными лексическими единицами-компонентами11.
В русском языке в целом преобладают пословицы и поговорки с отрицательной коннотацией, но не во всех из них содержатся субстандартиз-мы. То есть субстандартные единицы в паремиях используются в отдельных случаях либо для выражения крайне негативной оценки, либо для обозначения социальной роли адресанта и/ или адресата.
Поскольку в художественной литературе отражается переосмысленная творческим воображением автора реальная действительность, то в XX веке в ряде художественных текстов употребление субстандартной лексики и фразеологии, а также паремий стало необходимым. Так, в произведениях В. Шаламова, А. И. Солженицына, З. Прилепина активно употребляется не только субстандартная лексика, но и паремии с жаргонным компонентным составом. Подобные пословицы зачастую имеют варианты без субстандартизмов, но для конкретного художественного текста автор выбирает вариант с жаргонизмами или арготизмами. Например, в повести А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» и в художественно-историческом произведении «Архипелаг Гулаг»:
«Шухов ничего не ответил и не кивнул даже, шапку нахлобучил и вышел. Теплый зяблого разве когда пой-мет ?» 12. «И все те, кто воруют, киркой сами не вкалывают. А ты - вкалывай и бери, что дают . И отходи от окошка. Кто кого сможет, тот того и гложет » 13 . «Ужинал Шухов без хлеба: две порции, да еще с хлебом – жирно будет, хлеб на завтра пойдет. Брюхо - злодей, старого добра не помнит, завтра опять спросит» 14 .
Приведенные примеры свидетельствуют, что пословицы с субстандартными элементами выступают как единицы аксиологического плана, которые обнаруживают «семантический сдвиг». По словам Л. Б. Савенковой, они «не только характеризуют объект номинации, но и оценивают его либо формулируют рекомендацию выбора линии поведения в определенных условиях» [8].
В текстах А. И. Солженицына паремии с субстандартными компонентами не являются ча- стотными, однако их можно назвать семантическим ядром текста, поскольку в них находит отражение культурно-языковое состояние описываемого социума. Персонажи Солженицына оказываются в страшных условиях лагерного быта, для реалистического описания их жизни субстан-дартизмы обязательны. Паремии с субстандартными компонентами у Солженицына зачастую являются трансформированными, что становится еще одним элементом выразительности художественного текста. Трансформированные паремии обращают на себя внимание читателей необычной формой и яркой экспрессией. Главный герой повести изначально не принадлежит к уголовному миру, субстандартная лексика является ему чуждой, однако он «вместе со всеми» теперь является частью этого лагерного мира, поэтому субстандартные паремии для характеристики жизни Шухова являются уместными. Обращает на себя внимание языковая деликатность писателя, поскольку в тексте повести суб-стандартизмы минимизированы.
В произведениях З. Прилепина «Санькя», «Обитель» паремии с субстандартными компонентами выполняют (в соответствии с концепцией Г. Л. Пермякова) моделирующую и прогностическую функцию, в рамках которой описывается модель жизненной ситуации и оцениваются результаты действия персонажей. Так, в повести «Санькя» главный герой, используя паремии (в ограниченном количестве), реально оценивает свои шансы на выживание в условиях лагеря при острой вражде с уголовниками15. Оказываясь в водовороте событий политических изменений в стране, герой пытается вместе с друзьями и приятелями решить сложный вопрос национального устройства нового государства, изначально считая, что в национальном государстве не должно быть места для иных. Национализм скинхедов начала 90-х годов XX века показан бескомпромиссно и жестко реалистично. Однако и в данном случае у З. Прилепина наблюдается определенная языковая деликатность, так как субстандартные языковые единицы не становятся лексическими доминантами текста. Паремии с субстандартизмами также, как и в текстах Солженицына, являются трансформами, что привлекает внимание читателей и вызывает эффект отстранения.
«– Дело в том, что – не надо. Не надо ничего делать. Потому что пока рас-се-яне тихо пьют и кладут на все с прибором, все идет своим чередом. Водка остывает, картошечка жарится. А как только рас-се-яне вспомнят о своем, завалившемся под лавку величии, о судьбах Родины, о… о чем вы там все время говорите?»16. «– Черт, я не знаю этого района! – сказал Веня, улыбаясь. И до- бавил, без паузы и тоже весело: – Там мочат всех наглухо, эти “космонавты”»17. «– Иди сюда, – рванув на себя, Олег легко довел Безлетова до стены между окнами и пристегнул второе кольцо к батарее. – Зол злодей… а я троих злей… Понял? – дыхнул в лицо Безлетову так, что тот отшатнулся рефлекторно»18.
Просторечные формулировки, паремии с суб-стандартизмами являются неотъемлемой частью текстов Прилепина, эффективным стилистическим приемом.
В «Колымских рассказах» В. Шаламова паремий с субстандартными компонентами также ограниченное количество (16), но тем более значимой оказывается их регулятивная функция; воздействие на читателя и передача эмоционального фона и оценки происходящих событий позволяют автору определять их мировосприятие.
«– Иди сюда, – рванув на себя, Олег легко довел Без-летова до стены между окнами и пристегнул второе кольцо к батарее. – Зол злодей… а я троих злей… Понял? – дыхнул в лицо Безлетову так, что тот отшатнулся рефлекторно.19
В следующих примерах трансформация паремий угадывается по форме и структуре. Аллюзии к нескольким известным паремиям делает тексты рассказов Шаламова поликодовыми, требующими многоуровневой расшифровки. Но главное – это привлечение внимания к образам узников колымских лагерей, их трагической судьбе.
«Если беда и нужда сплотили, родили дружбу людей – значит, это нужда не крайняя и беда не боль-шая»20. «Каждая минута лагерной жизни – отравленная минута»21.
Заметим, что в рассказах В. Шаламова отсутствуют обсценизмы, что не может объясняться только соображениями прагматического характера (подготовкой текстов к публикации). Это авторская позиция, стремление избегать субстандартных лексем там, где возможно. Трансформированные паремии с субстандартизмами у Шаламова являются приметой идиолекта писателя.
ВЫВОДЫ
В художественных текстах, предметом которых становится осмысление социальных проблем общества и маргинальных социальных групп, пословицы используются для описания возможностей индивида делать выбор в критических ситуациях. Авторы, используя паремии, творчески применяют прием речевого воздействия, выражая при этом собственную позицию.
В целом паремии с субстандартными компонентами помогают авторам в отражении ре- альности, в воспроизведении аксиологических установок определенной части общества. Писатели реструктурируют фрагменты действительности, используя паремии для отражения авторских интенций, моделирования жизненной ситуации, эмоциональной интерпретации ситуаций. Паремии с субстандартизмами становятся приметой идиолектов писателей. В большей части рассмотренных художественных текстов паремии являются трансформированными, что придает тексту глубину, заставляя читателей обращаться к собственному языковому опыту для дешифровки многоуровневого смыслового содержания текста.
Результаты исследования могут использоваться в дальнейшем изучении прагматики художественного текста в связи с использованием лексики и фразеологии ограниченной сферы употребления. Описание прагмалингвистических функций паремий в художественных текстах позволит интерпретировать специфику дискурсивного пространства.