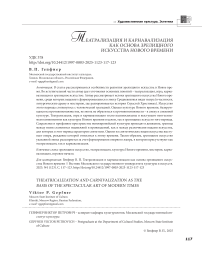Театрализация и карнавализация как основа зрелищного искусства нового времени
Автор: Гепфнер В.П.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 1 (123), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются особенности развития зрелищного искусства в Новое время. Во вступительной части автор дает уточнения основных понятий театрализация, игра, карнавализация и зрелищное искусство. Автор рассматривает истоки зрелищного искусства Нового времени, среди которых выделяет сформировавшиеся в эпоху Средневековья виды театра (в частности, литургическую драму и мистерию, где разворачивается история Страстей Христовых). Искусство этого периода столкнулось с человеческой трагедией. Однако культура Нового времени, базирующаяся на противоположностях, не могла не обратиться к противоположности к смеху и смеховой культуре. Театрализация, игра и карнавализация тесно взаимосвязаны и выступают неотъемлемым компонентом как культуры Нового времени в целом, так и зрелищных искусств того периода. Сакральное и профанное пространства новоевропейской культуры приходят в движение, граница между ними становится подвижной и проницаемой, как и между различными видами искусства, для которых в этот период характерен синтетизм. Одним из синтетических видов искусства выступает опера, рождение которой относится к этому времени. Таким образом, зрелищное искусство указанной эпохи расширяется за счет формирования оперного жанра, в котором присутствуют как театрализация, так и карнавализация.
Зрелищное искусство, театрализация, культура нового времени, мистерия, карнавализация, игровое начало
Короткий адрес: https://sciup.org/144163368
IDR: 144163368 | УДК: 378 | DOI: 10.24412/1997-0803-2025-1123-117-123
Текст научной статьи Театрализация и карнавализация как основа зрелищного искусства нового времени
Название статьи может вызвать вопросы, поскольку театрализация, в основе которой лежит игровой элемент, присуща в большей или меньшей степени каждому человеку. Значимость роли игры в жизни человека рассматривали многие исследователи (Х. Ортега-и-Гассет, Й. Хёйзинга, Е. Финк, Г. Эриксон и др.). Так, Е. Финк отмечает, что «человек как человек есть игрок. Игровому свершению присуща особая настроенность, настроение окрылённого удовольствия, которое больше простой радости от свершения, сопровождающего спонтанные поступки, – радость, в которой мы наслаждаемся своей свободой, своим деятельным бытием» [11, с. 345]. Й. Хейзинга подчеркивал, что «культура в ходе эволюции появилась на свет из игры, и именно таким образом, что то, что первоначально было игрою, позже стало чем-то, что игрою уже не являлось и могло по праву называться культурой» [12, с. 60]. О феномене игры писал и М. М. Бахтин, указывая, что «символы игры всегда входили в образную систему карнавальных образов» [1, с, 46]. Следовательно, можно говорить о том, что культуре изначально присуща игровая и карнавальная природа и каждая из них тесно взаимосвязана с театрализацией.
Однако театрализация – понятие достаточно сложное для определения, поскольку зыбкость ее границ не позволяет точно определить содержание. Кроме того, грань между театрализацией, присущей некоторым видам искусства, и театрализацией в жизни условна, что тоже может привести к заблуждениям разного рода.
При этом необходимо все-таки подчеркнуть тот факт, что театрализация, как специфическая черта того или иного периода, есть явление непостоянное: от эпохи к эпохе наблюдается ее волнообразное развитие. Например, театрализация выступает одной из характерных черт античной культуры, поскольку мир представляется древним грекам театральной сценой, «а люди – актеры, которые появляются на этой сцене, играют свою роль и уходят» [8, с. 492]. Следовательно, под театрализацией можно понимать эстетическое переживание реально происходящих событий, то есть переживание происходит через призму художественной интерпретации. Безусловно, ярче всего театрализация проявляется в зрелищном искусстве.
В художественной культуре эпохи Средневековья шло активное формирование новых форм театральной жизни, что отчасти было связано с фактическим угасанием театрального искусства уже в период поздней античности. Об этом можно судить по много- численным фактам. Среди них, в частности, следует указать на то, что уже пьесы Сенеки, единственные дошедшие до нашего времени целиком от античности, скорее предназначались для прочтения, нежели для постановки. Кроме того, к концу эпохи античности значительно сократилась вместимость амфитеатров, что также свидетельствует об изменении значимости театра в жизни общества.
Эта же тенденция – даже в виде табуи-рования любых театральных форм – была присуща и раннему Средневековью, где церковь осуждала их, как наследие языческой культуры (следствием этого был и запрет на выступления мимов и гистрионов). Лишь постепенно происходит пересмотр данной позиции, поскольку театральность выступила неотъемлемым компонентом западнохристианской литургии, а результатом этого процесса становится формирование литургической драмы как одного из первых жанров церковного театра.
Важным видится и вопрос об истоках средневековых форм театрального искусства Европы. Как отмечают исследователи, «если театр в Византии имеет внецерковные истоки, коренясь, прежде всего, в искусстве мимов, то процесс зарождения средневекового западного театра ограничен пространством церкви – отсюда он искал выход на улицу, в широкий мир» [5, с. 6]. Данное положение чрезвычайно важно для понимания природы театрализации в Новое время.
Таким образом, начавшись с рождественских и пасхальных игр (Osterspiel), формирование которых относится к концу II века, состоящих из простейших диалогов, средневековые формы театрального искусства вырастают до мистерии, целостно показывающей историю Страстей Христовых.
Нужно остановиться и на понятии «зрелищное искусство», подходы к трактовке которого весьма разнообразны. Даже перечень видов, входящих в зрелищное искусство, вызывает дискуссии. Однако большая часть исследователей включает в него традиционные (ритуал, карнавал, балаган, цирк, театр, спор- тивные соревнования) и технические (кинематограф, телевидение, видео) формы [13].
Бесспорна способность зрелищного искусства погружать человека в пространство праздника. При этом оно может иметь результатом как лишь развлекательный эффект, так и эффект эстетический. Однако в любом случае зрелищное искусство базируется на конкретной системе ценностей, в связи с чем понимание этической (и эстетической) составляющей выступает необходимым условием для понимания его функциональной значимости в ту или иную историко-культурную эпоху.
Эти предварительные замечания необходимы для анализа процесса театрализации и карнавализации в Новое время. «Учитывая разновременность угасания идеи ̆ Ренессанса даже на его родине, в Италии, не говоря уже о заальпии ̆ скои ̆ Европе, определить точную дату рождения» Нового времени «не представляется возможным» [10, с. 43]. Так же ситуация обстоит и с моментом его окончания. Однако, поскольку обозначенные трудности не влияют на ход рассмотрения заявленной проблематики, вопрос о хронологии периода можно оставить в стороне.
Но представляется все-таки необходимым дать краткую характеристику художественной культуре этого периода, которая отражала драматизм эпохи, разочарование в ренессансных идеалах и утрату оптимизма Возрождения, веры в возможность построить окружающее человека пространство по его меркам. Кроме того, ХVII век уже стал обладателем знаний, полученных в ходе и Великих географических открытий и научной революции, благодаря которым изменяется представление о мире, пространство которого может как увеличиваться до бесконечности, так и уменьшаться до молекулы. То есть процессы, свойственные этому периоду, порождают пограничное пространство, пространство «между» старым и новым, и, следовательно, сложность описания эпохи связана с ее переходностью, формирование которой происходит как бы в результате сме- шения продолжающих бытовать культурных норм и традиций предшествующего периода и только нарождающегося [10].
«В христианстве безграничные возможности развития человечества впервые выступили идеально, абстрактно», «в Ренессансе – уже материально, но еще во плоти индивидуального человека» [3, с. 126], однако в Новое время происходит становление государства и общества как абсолютно новой системы организации жизни, задаются новые координаты мироустроения. В эту эпоху личность, с одной стороны, отчуждается от природы, поскольку экономика требует перестройки производства и постепенного перехода от сельского хозяйства к мануфактуре, с другой стороны, сталкивается с результатами развития европейской цивилизации, которые заставляют кардинальным образом пересмотреть сформированные установки. Так формируется пространство отчуждения, которое «личному мужеству в открытом бою противопоставляет порох, что приводит к «отчужденной» форме сражения, где трус может убить героя» [3, с. 127].
Таким образом, Новому времени, как и любому переходному периоду, свойственна двойственность, которая нашла отражение не только в сформированном им типе личности, но и в искусстве. «Искусство ХVII века, отражая картину мира своего времени (как художественная культура любой из эпох), возводит в культ движение как символ трансформирующегося и мятущегося мироздания («Скажите, что нас так мятет?», М. В. Ломоносов) и борьбу в самом широком смысле – политическую, религиозную, экономическую и пр.» [10, с. 44]. Изменчивость и подвижность мира, его способность расширяться и ужиматься фактически одновременно (если использовать телескоп и микроскоп), восприятие его как своего рода перевертыша, крушение прежней системы ценностей, – все это вызывало ощущение непрочности бытия, попытку найти в нем свое место.
Оглядываясь назад, человек вспоминал о прекрасном и гармоничном существовании в эпоху Ренессанса, которая базировалась все-таки на патриархальных устоях и исходила из представления целостности мира, человека и их сущности. Но вглядываясь в будущее, не всякий человек ХVI–ХVII вв. пока может осознать очертания формирующегося общественного устройства, осмысление которого происходит на основе принципов ренессансного искусства.
В связи со сказанным, «на рубеже XVII в. впервые в истории» «наблюдается столкновение личности и общества как реально , практически равновеликих друг другу, действительно равных и по духовному и чувственному, земному содержанию (а не иллюзорно)» [3, с. 128]. Следствием этого становится трагическое восприятие мира, представление об измельчании человека и его отчуждении. Кроме того, одним из оснований культуры Нового времени выступает преодоление установленных предшествующими периодами канонов (художественных, поведенческих и пр.), что и провоцирует смещение границ.
Пограничность культурного пространства Нового времени требовала механизмов перехода, одним из которых был карнавал. Несмотря на существующие в карнавалове-дении разные подходы к оценке данного феномена (М. М. Бахтин исходит из противоположности площадного искусства и искусства церковного, хотя и отмечает, что «церковныи ̆ праздник имел свою, тоже освященную традицией, народно-площадную смеховую сторону» [2, с. 9], а, например, представители немецкой школы – Д.-Р. Мозер, Ю. Кюстер – видели его генезис в католической литургии), можно констатировать, что карнавал всегда есть взаимосвязь профанного и сакрального. Это обстоятельство чрезвычайно важно, поскольку именно это соотношение во многом будет определять развитие и специфику зрелищного искусства данной эпохи.
По мнению М. М. Бахтина в переходные периоды все происходящие процессы приобретают карнавальный характер, раскрывающийся как «смеховая драма одновременной смерти старого и рождения нового мира»
[2, с. 165]. Бахтин трактует карнавализа-цию не только как перенос в повседневную практику человека характеристик карнавала, но и как «инверсию двоичных противопо-ставлении ̆ », поэтому искусство этого периода, столкнувшись с человеческой трагедией, и новоевропейская культура, базирующаяся на противоположностях (М. Монтень, например, сравнивает современный ему мир с вечными качелями), не могла не обратиться к противоположности трагедии – комедии, к смеху и смеховой культуре.
Смех в карнавале выступает смыслообразующим элементом, благодаря которому выстраивается диалог с Другим, с самим собой и обществом. Он был необходим для нивелирования межличностного и общественного отчуждения. Только это давало возможность приступить к самопознанию, поскольку, упершись в предел (сформированных традиций, канона, общественного устройства), человек смог как бы раздвоиться и увидеть себя глазами Другого, или изобразить из себя кого-то другого.
Для скорейшей адаптации общества к этому новому необходимо не только карнавальное сознание, но и соответствующая визуализация, т. е. праздничное оформление. Как отмечал Г. Гачев, «художественная деятельность есть непрерывное оборачивание вещей друг к другу неожиданными сторонами» [3, с. 11]. М. М. Бахтин утверждал, что выработать эти образные формы способна именно народная площадная культура, формирование которой относится к предшествующим периодам. «Площадь была средоточием всего неофициального, она пользовалась как бы правами «экстерриториальности» в мире официального порядка и официальной идеологии, она всегда оставалась “за народом”» [2, с. 170].
В эпоху Нового времени, когда религиозные вопросы по-прежнему продолжали сохранять актуальность, светское начало, тем не менее, все отчетливее просматривалось во всех видах искусства. С одной стороны, эстетика этого времени была нацелена на дра- матические развязки, показ героических поступков, стремилась к пышности и декоративности. С другой стороны, обмирщение, связанное с развитием городской культуры, способствовало росту числа публики, которая выступала главным потребителем и заказчиком искусства вообще. Обе эти тенденции актуализировали театрализацию жизни и развитие театрального искусства. «Одним из символов эпохи барокко» следует считать пьесу Кальдерона «Великий театр мира», где в аллегорической форме представлена идея о том, что жизнь человека есть не что иное, как игра» [10, с. 48]. Следовательно, театрализация и игровая стихия выступают составляющими искусства Нового времени.
Этому историко-культурному периоду присуща ориентация на синтез искусств, результатом которого выступает рождение оперы во Флоренции. Достаточно быстрое ее распространение в Италии, возникновение нескольких оперных школ (в Риме, Неаполе, Мантуе и Венеции) свидетельствует о востребованности жанра, несмотря на разность социально-политического устройства и культурных традиций регионов. Так, если условия развития оперного жанра в Неаполе зависели от вкусов двора и народной певческой традиции, то в Риме – от позиции папы. В этих городах опера все-таки не получает массового распространения, поскольку она была доступна лишь избранным. Однако в Венеции, где на развитие жанра не влияли ни двор, ни католическая церковь, а культура маскарада сформировала особый тип публики, выступавшей активным участником проводимых празднеств, опера превратилась в массовый вид искусства. Этому способствовали особая атмосфера города с конкурирующими театрами, их публичность, увлекательность сюжета, свободное введение комических эпизодов даже в мифологические и библейские сюжеты.
Однако подчинение драмы музыке, лишало сценическое действие динамики, которая присутствовала, например, в commedia dell’arte, и оперу было необходимо поместить в иные условия, способствовавшие повышению ее зрелищности. Так начались поиски новой архитектуры и нового сценического оформления спектакля. Это было реализовано в проекте, предложенном Дж. Б. Алеотти, который возвел арку впереди просцениума и углубил сцену на 20 м, благодаря чему возникла так называемая сценическая коробка. Ее появление давало возможность повесить занавес и менять декорации, роскошность которых полностью отвечала эстетике барокко. Зрелищность усиливалась и за счет иллюзорной перспективы, благодаря которой сцена визуально превращалась во Вселенную. Более того, возникновение сценической коробки приводит к зарождению специфического направления в архитектуре – строительству театральных зданий, закрытых помещений, где было необходимо решить вопрос с освещением. Активно используются световые эффекты, начиная от факелов и заканчивая фейерверками и дымовыми завесами.
Кроме того, для оперного театра начинают шить костюмы. Если в театре предшествующей эпохи (например, в «Глобусе» Шекспира) актеры довольствовались одеждой, переданной знатными людьми, то в театре барокко костюмы создавались исключительно для сцены. Они ошеломляли богатым украшением, обилием драпировок и разнообразием ткани. В театре начинают применять и инженерию (движущиеся облака, люки и тросы, изображение морских волн и пр.), благодаря чему на сцене возникает динамика.
Таким образом, театрализация, игра и карнавализация тесно взаимосвязаны и выступают неотъемлемым компонентом как культуры Нового времени в целом, так и зрелищных искусств того периода.
Итак, изменчивость окружающего мира, его иллюзорность и относительность основополагающих категорий, кризис мировоззрения составляют основу культуры Нового времени. Неопределенность подталкивает к единственно возможному в этой ситуации выходу – воспринимать жизнь как игру или сцену, поэтому театрализация и карнавализация приобре- тают статус универсальных характеристик эпохи. Мировоззренческий кризис ХVII века воспринимается как своего рода смерть прежней системы ценностей и представлений, преодолеть которую можно благодаря зрелищу, в частности, карнавалу. Следовательно, он выполнял важную социокультурную функцию, способствуя перестройке и организации новой культурной парадигмы. Кроме того, благодаря его коллективному характеру, он дает возможность преодолеть отчуждение и формирует ощущение целостности. При подготовке к проведению карнавала большая часть городских жителей принимала активное участие в его подготовке (костюмы, маски, музыка и пр.), что способствовало вовлечению их в сферу искусства. На художественные процессы этой эпохи влияли и сохранявшая актуальность религиозная проблематика (в частности, попытки церкви вернуть в католицизм тех, кто предпочел протестантизм), и усиление индивидуализма, и увеличение численности городского населения, результатом чего становятся обмирщение сознания европейца и расширение численности публики. Следствием этих тенденций можно считать изменение конфигурации сакрального и профанного пространств, которые приходят в движение, смещается граница между ними, она становится проницаемой, сжимается первое и расширяется второе. Зрелищному искусству Нового времени, в том числе и карнавалу, свойственен синтетизм. Одним из синтетических видов искусства, рождение которого относится к этому периоду, выступает и опера. Однако если карнавал – как синтетическая форма зрелищного искусства – относится к числу массовых праздников, имеющих этническую окраску и подчеркивающего целостность общества, то опера предназначена для ограниченного круга зрителей, для публики, что впоследствии превращает ее в элитарный вид искусства. Таким образом, зрелищное искусство Нового времени расширяется за счет возникновения оперного жанра, специфическими чертами которого выступают театрализация и карна-вализация.