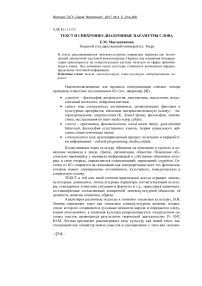Текст и синхронно-диахронные параметры слова
Автор: Масленикова Евгения Михайловна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Проблемы перевода
Статья в выпуске: 4, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются лингвокультурные параметры перевода как полноценной двуязычной текстовой коммуникации. Перевод как вторичная интерпретация ориентируется на концептуальную систему читателя из сферы принимающего языка. Под влиянием кодов культуры становится возможным перераспределение текстовой информации.
Текст, лингвокультура, коды культуры, интерпретация, перевод
Короткий адрес: https://sciup.org/146278357
IDR: 146278357 | УДК: 811.111''23
Текст научной статьи Текст и синхронно-диахронные параметры слова
Основополагающими для процесса коммуникации считают четыре принципа, известные под названием 4Cs (см., например, [8]):
-
• cognition – философия, антропология, лингвистика, психология, искусственный интеллект, нейролингвистика;
-
• culture (как совокупность когнитивных, символических факторов и культурных артефактов, имеющих материалистическую основу) – литературоведение, антропология (К. Леви-Строса), философия, лингвистика, исследования по mass media и pop culture;
-
• control – прагматика, феноменология, social action theory, goal-oriented behaviour, философия естественных языков, теория социального действия, социологические науки;
-
• communication (как целенаправленный процесс получения и переработки информации) – cultural programming, media content.
Коммуникация через культуру обращена на поведение в группах и поведение индивида в диаде, группе, организации, обществе. Поведение обусловлено имеющейся у индивида информацией и собственно общением, которые, в свою очередь, определяются социализацией, перцепцией, cognition. Система из 4Cs опирается на понимание как интерпретацию всех тех феноменов, которые имеют одновременно когнитивную, культурную, поведенческую и социальную основу.
ТЕКСТ в той или иной степени практически всегда отражает лингвокультурные доминанты, этнокультурные параметры соответствующей культуры, стандартные этикетные ситуации и формулы и т.д., транслируя национально-специфичные составляющие конкретной лингвокультурной общности, её ценности, понятия, концепты, образы.
Анализируя различные подходы к понятию «языковая культура», В.Н. Левина определяет текст как «языковое социокультурное явление, посредством которого сохраняются духовные ценности народа и передаются следующим поколениям», а языковая культура репрезентируется «посредством системы текстов, являющихся результатом творческой деятельности» [5: 104]. Ю.М. Лотман предлагает рассматривать саму культуру как некий текст, выступающий как генератор новых смыслов и одновременно с этим как «конден- сатор культурной памяти», который может «сохранять память о своих предшествующих контекстах» [6: 162]. В этом отношении культурные смыслы (или смыслы культуры) становятся своего рода структурными константами, влияющими, а иногда даже (пред)задающими ход течения всей речевой ситуации: «разными способами кодируемое ценностное содержание образует систему кодов культуры и составляет в целом картину мира, которая раскрывает мировоззрение того или иного социума» [3: 9].
Память текста образована суммой его контекстов, а внутри самого текста создаётся смысловое пространство, опосредуемое культурной памятью и/или традицией. Читатель «как представитель нации “погружается” в тексты, причём, последние выступают как его характерные, лингвокультурные маркеры» [2: 90]. В этом отношении ТЕКСТ становится лингвокультурологическим маркером языковой личности как автора, так и «своего» потенциального читателя, на которого ориентировался автор. Если «культура есть комплекс облигаций, типология которых также задаёт сетку культурных типов» [1: 8], то, чтобы «выйти» на соответствующую сетку заданных культурных типов, автор и его читатель, а в случае двуязычной коммуникации перевода, автор, переводчик как первичный читатель и собственно читатель из системы принимающей культуры должны обладать определённым общим багажом знаний, что становится проблематичным в случае их разделения пространственновременной дистанцией. Прочтение и дешифровка культурных смыслов, типов и типажей связаны с наличием коммуникационных и интерпретационных стратегий, выход на которые определяют не только, например, знакомство с идеологией и литературными традициями эпохи, её эстетическими нормами и т.д., но и умение разбираться в социальных моделях коммуникации. Пространственно-временная дистанция как барьер, разделяющий автора текста и читателя, определяет положение исходной авторской проекции текста и получаемой читательской проекции текста относительно интерпретирующего диапазона, имеющегося у данного текста.
Фрейм текста в виде narrative schemata реализуется через систему ключевых слов, стереотипизированных образов, совокупность фактов и суждений. При этом СЛОВО как особая отдельная «точка» плотности текстового пространства способно запустить процесс смыслообразования. Для установления межтекстовых связей и прочтения соответствующих культурных парадигм требуется знание о составе сложного мифопоэтического комплекса, стоящего за СЛОВОМ, которое, будучи включённым в особые кодовые системы, аккумулирует в себе культурную память. Сила подобных связей определяется соответствующими синхронно-диахронными параметрами. Возможно рассеивание значений, имеющихся у СЛОВА и/или активация ключевых признаков второстепенного значения. Например, янтарь на трубках Цареграда из строфы XXIV первой главы романа «Евгений Онегин» (1823–31, полностью – 1833) А.С. Пушкина (1799–1837) указывает на одну из неотъемлемых составляющих образа денди – турецкие трубки с янтарными мундштуками. Схожее описание кабинета денди и светского льва создаёт А. Дюма / Alexandre Dumas (1802–1870) в романе «Le Comte de Monte-Cristo» / «Граф Монте-Кристо» (1844–1845):
…une collection de pipes allemandes, de chibouques aux bouquins d’ambre, ornées de corail, et de narguilés incrustés d’or, aux longs tuyaux de maroquin roulés comme des serpents, attendaient le caprice ou la sympathie des fumeurs . A. Dumas. Le Comte de Monte-Cristo ↔ Наконец, в открытом шкафу коллекция немецких трубок, чубуков с янтарными мундштуками и коралловой отделкой и кальянов с золотой насечкой, с длинными сафьяновыми шейками, свернувшимися, как змеи, ожидала прихоти или склонности курильщиков . А. Дюма. Граф Монте-Кристо (Перевод В.М. Строева,1845; в редакции Л. Олавской,1931); Ср.: ... in an open cabinet, a collection of German pipes, of chibouques, with their amber mouth-pieces ornamented with coral, and of narghiles, with their long tubes of morocco, awaiting the caprice or the sympathy of the smokers . A. Dumas. The Count of Monte Cristo (Anonymous translator, 1846)
Утрата связей с эстетикой эпохи расцвета дендизма заставляет переводчика С. Митчелла / S.M. Mitchell (2008) инкрустировать трубки янтарём ( Pipes from Tsargrad, inlaid with amber ), объяснив в комментариях Tsargrad как «Old Russian name for Constantinople». Сложности вызывает место происхождения трубок : Царьград – это древнерусское название столицы Византийской империи Константинополь , переименованной после её захвата в 1453 году турками в Стамбул / Istanbul . На английском языке роман «Евгений Онегин» был впервые полностью опубликован в 1891 году в переводе Генри Спалдинга / Henry Joseph Spalding (1840–1907), служившего при посольстве Великобритании в Санкт-Петербурге. Выбор Г. Спалдингом формы топонима Stamboul ( Amber on pipes from Stamboul glows ) соответствует частотности её употребления в языке того периода. Согласно данным программы «Google Books Ngram Viewer» (https://books.google.com/ngrams) , пики частотности для Stamboul приходятся на 1836, 1878, 1888 годы, а падение частотности начинается с 1915 года, при этом частотность для Istanbul начинается с 1926 года. Что касается форм Tsargrad и Tsaregrad , то они фигурируют в контекстах, связанных с историей церкви, походом князя Олега на Византию (907), международной политикой России и Великобритании: Tsaregrad встречается преимущественно в период с 1838 по 1845 годы, а Tsargrad возникает в момент обострения русско-турецких отношений (1877–1878). Таким образом, на отбор языковых средств влияет как их синхронно-диахронная значимость, так и контекстуальные условия употребления. В прозаическом переводе Р. Кларка (2005) присутствуют ambered pipes from Istanbul . Дж. Фален / James E. Falen (1990) называет трубки импортированными ( Imported pipes of Turkish amber ), а С.Н. Козлов (1994) – буквально ‘Византийскими трубами с янтарём’ ( Visantine tubes with amber ).
Со временем оказались утраченными ценностно-смысловые аспекты культуры первой половины XIX века, в том числе генетико-исторические связи, указывающие на интерес денди к Востоку и ориентализму. В английском языке существует особое название для подобных курительных трубок – chibouque ‘a Turkish tobacco-pipe’, которое имеет собственные коннотации и ассоциации. При издании поэмы Дж. Байрона / George Byron (1788–1824) «The Bride of Abydos» / «Абидосская невеста» (1813) восточная реалия Chibouque обычно объясняется следующим образом: «the Turkish pipe, of which the amber mouth-piece, and sometimes the ball which contains the leaf, is adorned with precious stones, if in possession of the wealthier orders» (1833). При переводе поэмы русский поэт и переводчик И.И. Козлов (1779–1840) «восстанавливает» вид предмета gem-adorn’d chibouque как чубук в алмазах с янтарями (1826).
Параметры культурного коммуникативного кода (термин В.А. Виноградова [1]) служат своего рода коммуникативными сигналами, (не) позволяющими извлекать из знаков требуемые в данной ситуации знания. В этом отношении реалии, имеющие социально-эстетическую значимость, участвуют в формировании и взаимной скоординированности определённых сценариев в сознании коммуникантов, поэтому литературные герои, «живущие» в высшем свете XIX века, получают от авторов часы брегет , как, например, Эжен Растиньяк из романа «Le père Goriot» / «Отец Горио» (1834–1835), щёголь Шарль Гранде из романа «Eugénie Grandet» / «Евгения Гранде» (1833) и Макс из «Un Ménage de garcon» / «Жизнь холостяка» (1842) О. де Бальзака. Даже Эраст Фандорин из современных исторических детективов Б. Акунина (р. 1956) имеет брегет . Возможно, это простое совпадение, но созвучие имён позволило герою О. де Бальзака Eugène de Rastignac стать Евгением в первом переводе романа «Le père Goriot» на русский язык, опубликованном в журнале «Телескоп» (1835) анонимным переводчиком под названием «Дед Горио». Итак, в пушкинском романе «Евгений Онегин» брегет упоминается три раза: в первой главе в строфах XV ( Пока недремлющий брегет / Не прозвонит ему обед ) и XVII ( Но звон брегета им доносит, / Что новый начался балет ), в строфе XXXVI ( Желудок – верный наш брегет ) из пятой главы. О значимости часов этой марки как культуры дендизма свидетельствует рассказ «Брегет» (1897) А.И. Куприна (1870–1938), также содержащий неявные отсылки к роману «Евгений Онегин» ( сижу глаз на глаз с дряхлым, больным стариком, далеко от города ) и к временам лихих гусар ( он в своё время с самим Денисом был на ты ).
Перевод Г. Спалдинга имеет подзаголовок «A Romance of Russian Life in Verse» (буквально ‘Роман в стихах из русской жизни’), поэтому читателю объясняется, что Breguet является сленговым наименованием часов («a slang term for a watch»). Несмотря на то, что Breguet до сих пор остаётся маркой часов класса «люкс», современные переводчики предпочитают упрощать текст, не обращая внимания на социокультурную значимость реалии для дворянской среды XIX века, где дендизм являлся определяющим стилем жизни: pocket watch ‘карманные часы’ (Gerard R. Ledger, 2001) или просто watch ‘часы’ (R. Clarke, 2005). Комментарии к современным переводам пушкинского романа, выполненным Дж. Фаленом / James E. Falen (1990) и С. Митчеллом (2008), содержат сведения о французском часовщике Абрахаме Луи Бреге / Abraham-Louis Bréguet (1747–1823) и описание самих часов.
Построению модели текста переводчиком как первичным читателем оригинала способствуют навыки сегментации, селекции, распределения, адаптации. Проявляемая актуализация родо-видовых связей часто позволяет переводчику уточнить интерпретацию, действуя внутри интерпретационного диапазона, или упростить текст, что имело место в прозаическом переводе Р. Кларка.
Meanwhile, in morning dress and wide-brimmed bolivar hat, Onégin rode to the Boulevard and took a stroll there in the open till his ever-wakeful chiming watch from
Paris struck the hour for dinner . A. Pushkin. Eugene Onegin (Translated by R. Clarke, 2005)
Адаптационная нейтрализация (типа брегет – watch ‘часы’) объясняется корреляцией текста относительно определённой культурной парадигмы с её массовым «средним» читателем, кто часто оказывается не в состоянии обратиться к информационному тезаурусу (термин Е.С. Кубряковой) и оперировать структурированными знаниями, на которые опираются соответствующие когнитивные модели.
Перевод художественного текста представляет собой интерпретирующий способ репрезентации авторских (индивидуально-личностных) знаний о предметах и явлениях, существующих в реальном окружающем мире и/или в вымышленном мире, создаваемом волей и фантазией самого автора. Получаемый вторичный текст в той или иной степени будет включён в иную социокультурную среду, где действует определённый комплексный код культуры. Так, в прозаическом переводе Р. Кларка пушкинское наименование в строфе XV первой главы Онегина как мой проказник стало my playboy friend , а модные чудаки из строфы XXVII предстают как male fashion-freaks .
По мере удаления от оригинала изменяется принцип восприятия созданного автором Мира текста, а стоящие за отдельными реалиями культурные коннотации оказываются для читателя «потерянными», переходя в разряд лакун. Переводчики могут усложнять или упрощать его в зависимости от имеющихся у них информации и способах языковой обработки данных, в том числе и заведомо ложных. Что касается связи между звоном брегета и обедом ( Пока недремлющий брегет / Не прозвонит ему обед ), то переводы свидетельствуют о непрочтении некоторыми современными переводчиками культурного подтекста. В переводе Г. Леджера / Gerard R. Ledger (2001) карманные часы напоминают Онегину об обеденном скотче ( it is time for his dinner and scotch ), а М. Хобсон / M. Hobson (2011) полагает, что без напоминания Онегин может забыть об обеде ( Reminds him he must dine today ). Б. Симмонс / Bayard Simmons (1950) указывают на обычай переодеваться к обеду и на невозможность опаздывать к столу ( he must dress for dinner or be late ).
Культура и ассоциируемые с ней культурные артефакты воплощают в себе ряд духовно-ценностных компонентов, раскрывая особенности национального этнокультурного сознания. В этом отношении вольная или невольная адаптационная нейтрализация оригинала переводчиком вызвана как его собственным незнанием соответствующего культурного кода и/или его отдельных параметров, так и целенаправленной ориентацией на принимающую текст вторичную аудиторию, которая может не владеть требуемым для понимания текста объёмом фоновых знаний. Возникает вопрос: не окажется ли перевод, приближенный по времени создания к оригиналу, более точным и полным именно с позиции сохранения в нём параметров кода культуры. Так, чаще всего роман А. Дюма «Граф Монте-Кристо» переиздаётся на английском языке в анонимном переводе (1846), а на русском языке – в переводе В.М. Строева (1845) под редакцией Л. Олавской (1931). На английском языке романы писателя О. Бальзака / Honoré de Balzac (1799–1850) чаще всего переиздаются в переводах, выполненных в XIX веке К. Уэрмли / Katherine Prescott Wormeley (1830–1908) и Э. Марридж / Ellen Marriage (1865–1946). Вероятнее всего, издатели считают - 218 - эти переводы максимально соответствующими «духу» эпохи, когда автор и переводчики оказались в едином смысловом универсуме культуры, что позволило передать культурный компонент значения слов (термин Н.Г. Комлева).
Расхождения в категоризации могут быть обусловлены разной степенью актуальности для коммуникантов. Основными факторами, предопределяющими глубину и интенсивность адаптации художественного текста при переводе, являются его назначение, параметры предполагаемой аудитории, тип читателя. Воспетый А.С. Пушкиным в строфе XVI из первой главы «Евгения Онегина» дружеский обед подразумевал пробку от вина кометы в потолок и Страсбурга пирог нетленный ‘запечённый в тесте паштет из фуа-гра с добавлением трюфелей, рябчиков и перемолотой свинины’. Светские щёголи из романа А. Дюма «Граф Монте-Кристо» упоминают un pâté de chez Félix (буквально ‘паштет от Феликса’) от известного ресторатора. Если английский переводчик (1846) романа исходил из представлений «своей» аудитории о привычках гурманов, заменив паштет на Strasbourg pie , что свидетельствует о европейской общности культурнозначимых ориентиров для конкретной эпохи, то В.М. Строев (1845), наоборот, оставляет паштет от Феликса.
Герой детской книги «The Wind in the Willows» (1908) английского писателя К. Грэма / Kenneth Grahame (1859–1932) иронически упоминает названия дорогих блюд pate de foie gras ‘паштет из гусиной печёнки, страсбургский пирог’ и champagne ‘шампанское’ в ответ на сетования друга, что тот не может его хорошо угостить. Ориентация на детскую аудиторию заставляет Л. Яхнина (2002) сделать из шампанского ананасовый сок , а из паштета для гурманов – петушиные гребешки .
‘No pate de foie gras, no champagne!’ continued the Rat, grinning . K. Grahame. The Wind in the Willows ↔ – И бургундского нет, и паштета из гусиной печёнки, – подхватил дядюшка Рэт, смеясь . К. Грэм. Ветер в ивах (Перевод И. Токмаковой, 1988); – Ни паштета из гусиной печени, ни шампанского, – подхватил Крыс и вдруг распрямился . К. Грэхем. Ветер в ивах (Перевод В. Резника, 1992); – И петушиных гребешков нет, и ананасового сока, – подхватил со смехом Крысси . К. Грэм. Ветер в ивах (Перевод Л. Яхнина, 2002); – А паштет из гусиной печёнки? А шампанское? – усмехнувшись, проложил Рэт . К. Грэм. Ветер в ивах (Перевод В. Лунина, 2011)
В художественном тексте образы, мотивы и сложные мотивные комплексы и т.д. закреплены через СЛОВО, получающее особую смысловую нагрузку и обладающее ассоциативным полем. Вхождение СЛОВА в несколько тематических групп помогает ему стать своего рода художественным (поэтическим) знаком и символом, получающим реализацию в конкретном тексте или активированным относительно всего идиолекта автора, а также внутри культурного семиозиса. В этом отношении синхронно-диахронная значимость слова выступает в качестве культурного ориентира в Мире текста.
И.И. Ревзин специально оговаривает, что при переводе «имеет место не тривиальное перекодирование, а действуют тонкие многозначные соответствия между знаками двух (и более) систем» [7: 245]. В этом отношении особое значение приобретает способность переводчика провести концептуальный анализ в отношении «определения норм сочетаемости единиц и для выведения правил композиционной семантики» [4: 17], позволяющий не только понять то, что стоит за конкретной лексикографической дефиницией, но и соотнести ориги-- 219 - нал как первичный текст с вторичным текстом перевода с точки (не)воспроизводства в нём культурно-закодированной информации.
Список литературы Текст и синхронно-диахронные параметры слова
- Виноградов В.А. Языковые форматы культуры как знания//Когнитивные исследования языка. Вып. III. Типы знаний и проблемы их классификации. М.-Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2008. С. 7-11.
- Воробьёв В.В. К понятию русской языковой личности//Язык и культура. Уфа: Башкирский ун-т, 1995. С. 86-96.
- Ковшова М.Л. Семантика головного убора в культуре и языке. Костюмный код культуры. М.: Гнозис, 2015. 368 с.
- Кубрякова Е.С. Основные направления концептуального анализа: вместо введения//Когнитивные исследования языка. Вып. I. Концептуальный анализ языка. М.: Ин-т языкознания РАН; Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2009. С. 11-21.
- Левина В.Н. К вопросу о многоаспектности понятия языковая культура//Вопросы когнитивной лингвистики. 2014. № 4. С. 105-109.
- Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб.: «Искусство -СПб», 2000. 704 с.
- Ревзин И.И. Современная структурная лингвистика. Проблемы и методы. М.: Наука, 1977. 263 с.
- Beniger J.R. Communication -Embrace the Subject, not the Field//Journal of Communication. 1993. Vol. 43. No. 3. Pp. 18-25.