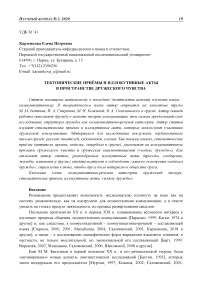Тектонические приёмы и иллокутивные акты в пространстве дружеского чувства
Автор: Карзенкова Елена Петровна
Журнал: Евразийский гуманитарный журнал @evrazgum-journal
Рубрика: Общее языкознание
Статья в выпуске: 3, 2020 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена актуальному в последние десятилетия аспекту изучения языка -коммуникативному. В теоретическом плане автор опирается на известные труды М. М. Бахтина, И. А. Стернина, М. Н. Кожиной, В. А. Салимовского и других. Автор данной работы описывает дружбу в аспекте теории коммуникации, тем самым продолжает своё исследование структуры дружбы как коммуникативно-речевой категории. Автор статьи изучает стилистические приёмы и иллокутивные акты, которые используют участники дружеской коммуникации. Материалом для исследования послужили опубликованные письма друзей: русских писателей, художников, учёных. Как показал анализ, стилистические приёмы (антитеза, ирония, мейозис, гипербола и другие), указывают на коммуникативные признаки дружеского чувства и дружеских взаимоотношений («кодекс дружбы»). Как отмечает автор статьи, разнообразные иллокутивные акты (просьбы, сообщения, жалобы, извинения и другие) свидетельствуют о соблюдении главного положения «кодекса дружбы»: стремления к тому, чтобы другу было интересно в обществе друга.
Коммуникативно-речевая категория, дружеский дискурс, стилистические приёмы, иллокутивные акты, «кодекс дружбы»
Короткий адрес: https://sciup.org/147229892
IDR: 147229892 | УДК: 81'41
Текст научной статьи Тектонические приёмы и иллокутивные акты в пространстве дружеского чувства
Речевёдение предоставляет возможность исследователю взглянуть на язык как на систему динамическую, как на инструмент для осуществления коммуникации, а в тексте увидеть не только продукт деятельности, но процесс развёртывания смыслов.
Последние десятилетия XX в. и первые XXI в. ознаменованы всплеском интереса к изучению процесса общения, осуществлению коммуникации [Парыгин, 1999; Каган, 1974 и другие] и, как следствие, к коммуникативной - коммуникативно-речевой - составляющей языка [Стернин, 2000, 2001; Михайлова, 2004; Салимовский, 2003, Карзенкова, 2018 и другие], а также - к исследованию специфических форм выражения языкового сознания, в частности, не только мыслительной, но эмоциональной его составляющей [Барт, 1999; Воркачёв, 2007; Мишланов, Салимовский, 2006; Шаховский, 2008 и другие].
Ещё М. М. Бахтиным в первой половине XX в., в его речеведческой теории, были «активированы» новые аспекты лингвистических исследований [Бахтин, 1993], которые затем поддержали его продолжатели [Мурзин, 1997; Кожина, 2002; Салимовский, 2003;
Матвеева, 2004 и другие]. Речевёдение - изучение речи в аспекте коммуникативных [Стернин, 2000; Стернин, Шилихина, 2001; Шаманова, 2009 и другие] и коммуникативноречевых категорий [Карзенкова, Салимовский, 2005; Карзенкова, 2009; Карзенкова, 2018; Мехонина, 2013 и другие] представляется весьма перспективным.
Объектом исследования в данной статье является актуализация дружеских взаимоотношений в текстах эпистолярного жанра; предметом исследования - структура коммуникативно-речевой категории «дружба» в стилистическом и отчасти в иллокутивном аспектах. Понятие о коммуникативно-речевой категории [Карзенкова, 2011, с. 89] в основном опирается на жанроведческие представления М. М. Бахтина [Бахтин, 1993], на теорию функциональных семантико-стилистических категорий М. Н. Кожиной [Кожина, 1983] и на анализ содержания коммуникативных категорий, проведённый И. А. Стерниным [Стернин, 2000; Стернин, Шилихина, 2001].
Основная часть
Для начала необходимо отметить, что речь понимается автором данной статьи как деятельность, а высказывание (например, фрагмент письма) осмысливается как речевое действие [Каган, 1974; Парыгин, 1999; Карзенкова, Салимовский, 2005; Мишланов, Салимовский, 2006]. И, как следствие такого понимания высказывания, письмо - дружеское письмо - представляет интерес как поле для речевого - дружеского - взаимодействия, как вербализация Кодекса дружбы, описанного в психологических исследованиях [Кон, 1989; Немов, 2001; Петровский, 2001]. При этом сама дружба понимается нами как категория -коммуникативно-речевая категория, то есть «потенциальная система средств, используемых при создании текста в типовой ситуации речевого взаимодействия» [Карзенкова, 2011, с. 89]; «виртуальный план речевого жанра» [Карзенкова, 2018, с. 55]. Дружба, таким образом, выступает и как дружеские чувства, и как дружеские взаимоотношения, которые могут быть зафиксированы как в устной речи, так и «на бумаге».
Объединяя задачи лингвистики и поэтики, утверждая, что «поэтика занимается проблемами речевых структур точно так же, как искусствоведение занимается структурами живописи» и что «поэтику можно рассматривать как составную часть лингвистики» [Якобсон, 1975, с. 1], Р. О. Якобсон тем самым расширяет «границы действия» обеих дисциплин, предоставляет нам возможность взглянуть на текст (в том числе и на эпистолярный) более широко. Как отмечает учёный, это возможно потому, что «поэтика в более широком смысле слова занимается поэтической функцией не только в поэзии, где поэтическая функция выдвигается на первый план по сравнению с другими языковыми функциями, но и вне поэзии, где на первый план могут выдвигаться какие-либо другие функции» [Там же] (выделено нами - Е.К2). Подтверждением этого тезиса Р. О. Якобсона, без сомнения, служит приведённый далее анализ писем, в которых поэт (художник, учёный) остаётся поэтом в ситуации вовсе не поэтической, то есть во «фрагменте своей обыденной жизни», коим выступает дружеское письмо.
Весьма значимой в аспекте наполнения пространства дружеского письма тектоническими (термин К. К. Гаузенбласа) средствами (тропами и фигурами) представляется формулировка Р. Барта, который писал: «Если я с удовольствием читаю ту или иную фразу, ту или иную историю, то или иное слово, значит, и писавший их испытывал удовольствие (что, впрочем, отнюдь не исключает... сетований на муки творчества)» [Барт, 1989, с. 463]. Так - с помощью текста - от адресанта к адресату передаются чувства, испытываемые его автором. При этом может родиться, по выражению Р. Барта, «текст-удовольствие» - «текст, приносящий удовлетворение, заполняющий нас без остатка» [Барт, 1989, с. 471]. К созданию - порождению - такого рода текста и стремится, как представляется, адресант как автор дружеского письма.
Необходимо отметить, что «порождение текста», равно как и «его интерпретация» для каждого участника коммуникации - как носителя языка - есть, прежде всего, «решение эмоциональной и мыслительной задач», как пишет, в частности Т. М. Др изде, - а уже потом «лингвистической, так как во всякой деятельности замысел предшествует конкретным операциям и выбору средств по их осуществлению» [Дридзе, 1980]. Иными словами: сначала - что хотим выразить, а потом уже - «как» мы это делаем...
Пространство текста, таким образом, является не только отражением мыслей порождающего его адресанта, но и отражением чувств, которые испытывал создатель текста и которые «считывает» с той или иной степенью адекватности адресат. И, как представляется, чем ближе адресант и адресат по мироощущению и миропониманию, чем тоньше они чувствуют друг друга, тем больше вероятность верного прочтения «состояния чувств» адресанта, и тем вернее угадает, как построить свой текст, адресант. Всё это верно и для дружеских чувств, и для текста дружеского письма, что подтверждают наши исследования (см. об этом: [Карзенкова, 2011, 2018]).
Тектонические [Гаузенблас, 1967, с. 69-75] - они же могут быть названы стилистическими, или речевыми - средства и приёмы играют вполне определённую роль в текстах дружеской переписки, демонстрируя, оттеняя, обостряя, гиперболизируя, минимизируя или приукрашивая определённые стороны жизни друзей, их взаимоотношений. Часто такого рода средства служат для развлечения адресата, для того, чтоб доставить удовольствие от чтения письма [Карзенкова, 2010], что вполне соответствует особому неписанному Кодексу дружбы [Вежбицкая, 2001; Кон, 1989; Немов, 2001; Петровский, 2001; Карзенкова, 2011].
Письмам друзей как пространству коммуникативно-речевой категории «дружба» [Карзенкова, 2018], разумеется, присущ юмор в виде иронии, самоиронии и других подобных приёмов, использование которых способствует демонстрации дружеских чувств и поддержанию дружеских отношений.
Сравните, например: Женатый коллега! Хотя Вам теперь и не до приятелей и не до писем, но тем не менее спешу сдержать обещание - шлю вырезку из газеты <...> До сих пор не пришёл в чувство после Татьяны [невесты адресата} <...> я налиссабонился важно, не щадя живота . В результате - пустое портмоне, переменённые калоши, тяжёлая голова, мальчики в глазах. Отчаянный пессимизм. Нет, надо жениться [Чехов, 1930, с. 131]. Заметим, что вывод, сделанный адресантом в конце столь «жалобной» и пессимистической картины «утра после свадьбы друга» абсурден - вовсе не вытекает из описанного ранее, что и прибавляет комизма: кошелёк пуст, голова тяжёлая после изрядно выпитого (сравните окказионализм: налиссабонилсяД калоши чужие, но всё равно... спасением от всего этого почему-то является... собственная женитьба...
Даже грустные ноты в иллокутивном акте жалобы адресант дружеского письма часто может приправить юмором самоиронии, как, например, в следующем фрагменте: Муза моя стала ленива, её тормошить надобно, чтобы вышло что-нибудь путное [Переписка, 1982-I, с. 57]. Здесь адресант (а это А. С. Пушкин) сетует на отсутствие лёгкости в его писательской работе, ища сопереживания у друга-коллеги (а это В. К. Кюхельбекер), но олицетворение (Муза ленива, тормошить её надобно), а также самоирония в описании собственной лени и необходимости заставлять себя трудиться (будто бы тормошить свою Музу), кроме сострадания, вызывают улыбку адресата, демонстрируя тем самым желание адресанта развлечь друга. Пусть другу - В. Кюхельбекеру - будет весело даже в моменты, когда его Муза заленится, ибо он перечитает или вспомнит это дружеское послание. Ибо здесь, в пространстве одного высказывания, размещены страдание и радость как «смешанные чувства», которые связаны для творческих людей с созданием произведений -их работой, требующей спонтанного вдохновения (появления и проявлений растормошённой Музы), и в то же время - труда, усилий, служения.
Как известно, не только писатель (поэт), но и художник может страдать от отсутствия вдохновения и захотеть пожаловаться (вновь иллокутивный акт жалобы) другу, тогда его может посетить «Муза словесного творчества» И он соединит самоиронию с олицетворением и может использовать даже « сниженную» лексику, тем самым «творчески самовыразится». Сравните, например: Хотел было вступить в законный брак с «музой», да она, подлая, не хочет! Мне хотелось бы родить хоть на маленьком лоскуте холста Mont Blanc, да без музы ничего не выходит.. . [Левитан, эл. p.-V],
Муза здесь настолько «глубоко олицетворена» И. И. Левитаном, что он даже «стремится вступить с ней брак», при этом не в качестве мужа, потому как даже собирается родить от неё. Последнее и представляет собой «крайнюю степень» самоиронии, от чего и возникает комический эффект, который, думается, по достоинству был оценён адресатом А. П. Чеховым, обладающим незаурядным чувством юмора. Следует отметить, что приведённый фрагмент на поверку оказывается именно жалобой. Представляется, что любой согласился бы, чтоб в такой весёлой форме поплакались в его жилетку близкие.
Иллокутивный акт извинения (за долгое отсутствие писем), соединяясь с актом просьбы (о проявлении сочувствия), тоже может быть облечён и облекается другом-адресантом в форму самоиронии, а также олицетворения длительного процесса созревания желания написать другу и олицетворения самой переписки (в описании её жизни и смерти, например), демонстрируя тем самым ожидание прощения и уверенность в прощении, продиктованные всё тем же кодексом дружбы (о Кодексе дружбы смотрите: [Кон, 1989; Немов, 2001; Петровский, 2001; Карзенкова, 2011]). Сравните: <...> простите девятимесячную беременность пера ленивейшего из поэтов.. . [Переписка, 1982-1. 57]. Или следующее: Кажется, что судьбою определены мне только два рода писем - обещательные и извинительные; первые в начале годовой переписки, а последние - при последнем её издыхании [Там же]. Трудно не заметить, что «почти нейтральные» -формальные или даже дежурные, как обычно считается, - существительные обещание и извинение (они же - иллокутивные акты), превращаясь в прилагательные извинительные и обещательные, становясь в контексте взаимоотношений друзей эпитетами и текст самоиронией, указывающей на желание, чтоб другу было приятно в обществе друга [Кон,
1989]; чтоб он получил удовольствие от общения [Немов, 2001; Дружба, 1990]. Это вполне согласуется с Кодексом дружбы, и кажется, что адресат простит друга только за это. Правда может статься, что повода к обиде и не было, ибо стремление к взаимопониманию - также одна из «статей» Кодекса. Однако этот небольшой фрагмент дружеского письма гораздо более разнообразен по приёмам: например, включает в себя ещё параллелизм и противопоставление. Построение его подчинено антитезе: первые - последние; в начале - при издыхании; обещателъные - извинительные. Даже ритмический рисунок этого крошечного прозаического текста предстаёт перед нами как поэтический. А кроме того, и сам рок оказывается вовлечён в круг действующих лиц иллокутивных актов объяснения (долгого отсутствия писем) и извинения (что судьбою определены), поэтому адресат, без сомнения, поймёт и простит адресанта в полном соответствии с Кодексом дружбы.
Заметим, однако, что шутки и ирония в дружеской переписке, в отличие, например, от переписки любовной [Салимовский, 2003; Карзенкова, 2006], могут быть направлены не только на адресанта (в виде самоиронии), но на адресата, потому как подшучивание вполне допустимо и в отношении адресата, если это - друг, а не возлюбленный. Сравните, например: (а) Очень рад был получить Вашу цидульку от 30 апреля и узнать, что Вы себя хорошо чувствуете [Переписка, 1980, с. 178] (иронично-пренебрежительно о письме друга); (б) Как себя чувствует господин почётный академик? Длится ли лихорадка, о которой писал мне? Я склонен думать, что эта твоя лихорадка [адресат болен} есть лихорадка самовлюблённости - твоей хронической болезни! <...> Какой, брат, стыд, срам. Хоть я и простой академик, но тем не менее я снисхожу к тебе, почётному, и протягиваю тебе руку [Левитан, эл. p.-IV]; (в) Да, любезный, поговаривают уже о старости и нашей [насмешка над возрастом своим и друга} [Переписка 1982-П. 241].
Заметим, что во фрагменте (б), кроме иронии в отношении снобизма адресата как академика почётного по отношению к адресанту как простому академику, можно отметить приём противопоставления (я - твоя лихорадка; академик почётный - академик простой; я - к тебе, я - тебе; твоя лихорадка - лихорадка самовлюблённости), а также подшучивание над настоящей болезнью адресата (А. П. Чехов действительно болен). Это делается, скорее всего, для облегчения отношения к ней (эмоциональная поддержка адресата) с помощью приписывания адресанту лихорадки самовлюблённости.
Во фрагменте (а) письмо за его краткость и ради того, чтоб повеселить адресата названо цидулькой (только то, что процедилось, выцедилось из автора), а возможно, это ещё и - проявление желания более длинных посланий, то есть иллокутивный акт косвенной просьбы.
Кроме того, подшучивание, ироничность, олицетворение и сравнения в дружеском письме помогают описать обстановку, в которой находится друг в данный момент; «окружающие его обстоятельства», которые в реальности представляют собой также выражение (и подчёркивание) чувств, их сопровождающих. То есть представляют собой коммуникативный акт эмотив. Делается это, как представляется, не только для развлечения адресата, но и для «поднятия собственного духа», в надежде на поддержку друга.
Сравните, например: (а) Въезд наш был при резком безнадежном ветре - без снега, так что порошинки неслись по мостовой взад и вперед без толку, и весь город как будто забыл число и направление своих улии [Блок, 1963] - сравнение, соединённое с олицетворением
(города, ветра, снега) и гиперболой. Все эти средства, как представляется, на поверхностном уровне воплощают в себе жалобу на погоду, которая, впрочем, может быть истолкована и как сообщение о душевном состоянии адресанта. Или ещё: (б) Тоскую здесь ужасно, не с кем слово сказать. Окружён англичанами, которых, кстати, куда ни приедешь в Европу, всюду бездна, как летом мух. Начинаю думать, что в Англии англичан нет, или уже всюду слишком много! Недели через две, вероятно, еду в Россию, куда смертельно хочется [Левитан, эл. p.-V],
Во фрагменте (б) гиперболы (бездна, всюду; ужасно; окружён; в Англии англичан нет) выступают как истинное мнение, на первый взгляд, указывающее на преувеличенное количество иностранцев вокруг адресанта, на самом же деле - с их помощью описывается тоска по Родине (смертельно хочется.. .в Россию), а также желание встретить соотечественника, а лучше - друга, чтоб было с кем слово сказать. А сравнение (англичан... всюду бездна, как летом мух) служит для того, чтоб подчеркнуть не столько количество иностранцев, сколько создать ощущение назойливости, навязчивости окружения. Кроме того, неявное противопоставление (Европа - Россия; Англия - Россия; Родина - Чужбина) вместе с иноязычным окружением как облавой, осадой (когда не с кем слово сказать), а также с гиперболизацией в семантике слов-понятий бездна и смертельно создают поистине трагическое впечатление от положения адресата. Это акт жалобы, желание поделиться тоской.
Заметим, что преданность другу, духовная привязанность к нему (ещё одна статья дружеского Кодекса) нередко выражаются в откровенных прямых эмоциональных признаниях в тоске, а также в жалобах на невозможность скорой встречи с другом (и с Родиной). В таких случаях юмор уступает место другой тональности, а иногда преувеличению особого рода (серьёзного, почти трагического). Сравните: Тоскую здесь ужасно... еду в Россию, куда смертельно хочется... [Левитан, эл. p.-V]; Мне тысячу раз хотелось написать тебе [Переписка, 1984-П, с. 63]; ... увидеться с вами [с друзьями] надежды нет как нет [Переписка, 1982—11, с. 241]; ...только Вы сможете изменить чуждую науке обстановку... о многом хочется поговорить и нужно поговорить [Переписка, 1980, с. 178]. Заметим, что в предпоследнем и последнем фрагментах желание личной встречи дополнительно подчёркнуто повтором (нет как нет, поговорить).
Ещё пример сравнения, в данном случае связанного в пространстве дружеского письма с иллокутивными актами пожелания (успеха), признания (таланта друга), признания в своём расположении, привязанности к нему, сравните: ...успеха Вам желаю громадного, постоянного, такого же крепкого и прочного, как моя вера в Ваш славный, симпатичный талант [Переписка, 1984-П, с. 120] и другие.
Активная помощь другу в делах может быть связана не только с нейтральной (деловой) тональностью, но и с юмористической. Так, например, один писатель делится опытом с другим: Я от себя прибавлю: познакомься поближе с литературой, иззубри Лермонтова, и немецких писателей Гёте, Гейне и Рюкерта, насколько они доступны в переводах, и тогда твори [Переписка, 1984-1, с. 49]. При этом явное преувеличение иззубри в сочетании с игрой слов (рифмованием) тогда твори, кроме подчёркивания значимости совета, способствует ещё и лёгкости восприятия (и даже запоминания) дружеских рекомендаций.
Если гиперболизация связана обычно в дружеском письме с чувствами, испытываемыми в разлуке, то это не мешает преувеличить также и значение качеств и заслуг адресата дружеского письма, а заодно и преуменьшить_(литота, мейозис) значимость адресанта, сравните: (а) Ответа от Вас я, конечно, не жду. Ведь я только Думский писец, а Вы - известный писатель [Переписка, 1984-П, с. 17]; (б) Я хочу, чтоб Ваша поэзия, которой мы все избалованы и незаслуженно задарены - рвалась дальше, к миру, к народу... ; (в) ...просто вы нянчите жизнь и в ней меня, недостойного вас, бесконечно вас любящего [Мандельштам, 1991, с. 554] и другие.
Во фрагментах (б) и (в) литота (мы... незаслуженно задарены; меня... недостойного вас) подкреплена антитезой (я - Ваша поэзия; Ваша поэзия - мы все; вы - меня) и олицетворением поэзии, которая балует, задаривает, рвётся дальше. Кроме того, обнаруживается и скрытая в подтексте, метафора: «адресат Отец - адресант дитя» (а может, и, судя по возвышенности слога: Отец - Сын - Дух Свят; последнее - Поэзия). Во фрагменте (а) с литотой (преуменьшением значимости адресанта) скреплены воедино самоирония и антитеза, когда противопоставляется значимость адресата (гипербола) и ничтожность (мейозис) адресанта (например, Вы - я; Думский писец - известный писатель).
В приведённых далее фрагментах антитеза отсутствует, там - только преуменьшение своих заслуг, самоирония, сравнение: (1) [мои] рассказы скучны и нудны, как осень, однообразны по тону, и художественные элементы в них густо перемешаны с медицинскими [Переписка, 1984-П, с. 7]; (2) Говорят, что и я, и галстук очень похожи [на портрете адресанта], но выражение... такое, точно я нанюхался хрену [Левитан, эл. p.-V], Заметим также, что А. П. Чехов - автор фрагмента (1) - «бранит осень», в отличие от известного всем нам любителя этого времени года...
Метафоры, как показал наш материал, нередко характеризуют (1) либо адресата, либо (2) третьих лиц. Сравните: (1) {об адресате] Сверчок сердца моего [Переписка, 1982-1, с. 88]; Дай свободу крыльям, и небо твоё (о таланте адресата и полёте его творческой фантазии); Быть сверчку орлом и долететь ему до солнца [Переписка, 1982-1, с. 89]; (2) {о третьих лицах] А уж о художнике Серове и говорить нечего... Для меня это настоящий драгоценный камень, в который чем больше смотришь, больше погружаешься, больше любишь и дорожишь им... [Серов, 1971, с. 52] - орёл, драгоценный камень, долететь до Солнца.
«Карнавальность» (термин М. М. Бахтина) в виде развернутой (текстовой) метафоры также весьма характерна для дружеского письма. Например, в следующих фрагментах: Милый Рома, мы пошли на семена. Винокур уже обанкрутился девочкой, а <я> жду через несколько дней мальчика [Якобсон, 1999, с. 116-117]; Чтоб напечатать «Онегина», я в состоянии... или рыбку съесть, или на <...> сесть . Дамы принимают эту пословицу в обратном смысле [Переписка, 1982-1, с. 175]; Изредка совокупляюсь (с музой, конечно), и хорошо, - кажется, забеременела . Что-то родит? {то есть начал-таки писать картину] [Левитан, эл. р.-V]. Заметим, что в обличии «метафорической карнавальности» выступает, казалось, «зауряднейший» иллокутивный акт - адресант использует всё это для передачи обычного сообщения: у нас с Винокуром - дети.
С «карнавальностью» вполне сочетаются иронические замечания, связанные с литературными аллюзиями, каламбурами... Благо, что подобные примеры адресат способен оценить по достоинству, ибо коммуниканты - люди, которые читают произведения художественной литературы. Сравните: Обнимаю тебя и твоего Демона. К чёрту чёрта! Прости, чёртик, будь ангелом! [Переписка, 1982-1, с. 89] [о стихотворении «Демон»; о приверженности Жуковского к изображению нечистой силы в балладах}; Витя делает из этого письма Хлестаковский счёт (II акт Ревизора), но ты этих «солёных огурцов» можешь не читать [Якобсон, 1999, с. 117]; Весь декабрь не работал у Суворина и теперь не знаю, где оскорблённому есть чувству уголок [из «Горя от ума» А. С. Грибоедова}[Чехов, 1956, с. 110]; В нашей Бессарабии в впечатлениях недостатка нет. Здесь такая каша, что хуже овсяного киселя [намёк на перевод Жуковского сказки Гебеля «Овсяный кисель»}. Орлов женился; вы спросите, каким образом? Не понимаю. Разве что ошибся... Наденет халат и скажет: Beatusille, guiprocul negotiis [Блажен, кто вдали от дел...(лат.), из Горация, переносное значение: о душевном покое} [Переписка, 1982-1, с. 67-68] и другие.
Следует обратить внимание и на следующие фрагменты: Витя исхалтурился до последней степени - никакого благообразия не осталось. А филологу это нужно. Пишет про доброхим, медведей всяких - чорт знает что [Якобсон, 1999, с. 117]; Не верь Винокуру. Он заманит тебя, убьёт и разрежет на статьи. .. [его} зовут реакционером [Якобсон, 1999, с. 119]; Думаю через 10-14 дней ехать в дорогую всё-таки Русь. Некультурная страна, а люблю её, подлую ! (антитеза; а дополнительно - соединение несоединимого - текстовой оксюморон) . Сравните также: Живи счастливо, смотри не топи подтяжек в клозетной чашке [Якобсон, 1999, с. 116]; Милый головастик, я очень люблю твою косую голову [Якобсон, 1999, с. 117]. Или например на следующий фрагмент: Будь здоров, помни, что есть Левитан, который очень любит вас, подлых; ...а там - непременно в Бабкино, видеть Вашу гнусную физиономию; Впечатлений чёртова куча!; Кто из ваших вздумает приехать к нам, - обрадует адски; Ты меня адски встревожил своим письмом! Вы такой талантливый крокодил, а пишете пустяки. Чёрт вас возьми!; Пиши, аспид ; Жму твою талантливую длань, сумевшую испортить такую уйму бумаги! П ознакомился с Андреевой... восхитительна и тебя ненавидит . Я безумно влюбился [Левитан, эл. pecypc-V],
В приведённых фрагментах представлены весьма характерные для дружеского письма особые сочетания (а) иронии - использования выражения в противоположном значении, обратном буквальному - вместе с (б) стилистически сниженной лексикой и / или «нечистосильной» (хтонической), а также (в) с «десемантизированными метафорами» (когда, например, именуют друга, животным с вовсе не принятой для выражения восхищения или любви семантикой). Иными словами: сочетание иронии и сниженной экспрессии, выраженное лексическими единицами не соответствующей восторгу коннотацией.
Заключение
Итак, при исследовании средств выражения тех или иных смыслов, связанных с дружескими взаимоотношениями и дружескими чувствами, нами были обнаружены следующие связи тропов и стилистических приёмов с аспектами, характеризующими отдельные дружеские действия и взаимоотношения в целом, включающими иллокутивные акты жалобы, извинения, объяснения, выражения эмоций, сообщения (о новостях).
Так, гиперболизация в пространстве дружеского письма обычно связана с превознесением адресата; литота - с преуменьшением значимости адресанта. Для усиления разнообразных эффектов при описании адресатом окружающей его обстановки и для воздействия на адресата (в том числе с целью развлечь или эмоционально поддержать) используются повторы (лексические, синтаксические; параллелизм при жалобах, например).
Антитезы, сравнения, метафоры, ирония, самоирония, игра слов и другие тектонические приёмы, используемые при порождении дружеского письма, часто выступают как элементы «карнавальное™», с целью повеселить адресата (да и адресанта в процессе создания текста).
Все эти средства в той или иной степени способствую общению друзей, находящихся на расстоянии и не имеющих возможности «вступить» в «прямые» задушевные разговоры.
При этом будничные, казалось бы, иллокутивные акты жалобы (на разлуку, окружение и т. и.), сообщения (новостей) превращаются в повод для того, чтобы развлечь друга, выказать своё расположение к нему, показать готовность к активной помощи, попросить адресата о содействии и т. и.
Тропы, стилистические фигуры и самые разнообразные иллокутивные акты в дружеском письме выполняют свою главную функцию - способствуют развлечению адресата и услаждению его эстетического чувства, а в процессе создания текстов (порождения дружеских писем), как представляется, и самого адресанта тоже. Это -реализация одной из важнейших целеустановок норм дружеского поведения -эмоциональная поддержка друга, стремление, чтоб ему было интересно и приятно в присутствии друга, пусть даже в присутствии не реальном, но «письменном».
Список литературы Тектонические приёмы и иллокутивные акты в пространстве дружеского чувства
- Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика / Пер. с франц. Г. К. Косикова. Москва: Прогресс, 1989. 616 с.
- Барт Р. Фрагменты речи влюблённых / Пер. с франц. В. Лапицкий. Москва: Ad Ма^тета. 1999. 431 с.
- Бахтин М. М. Под маской: Маска третья / Волошиной В. Н. Марксизм и философия языка. Москва: Лабиринт, 1993. 192 с.
- Вежбицкая А. Словарный состав как ключ к этносоциологии и психологи культуры: модели дружбы в разных культурах // Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов. Москва: Языки славянской культуры, 2001. С. 63 -209.
- Воркачёв С. Г. Любовь как лингвокультурный концепт. Москва: Гнозис, 2007. 284 с.
- Гаузенблас К. К уточнению понятия «стиль» и к вопросу об объеме стилистического исследования // Вопросы языкознания, 1967, № 5. С. 69 -75.
- Дридзе Т. М. Язык и социальная психология. Москва: Высшая школа, 1980. 224 с.
- Дружба // Психология. Словарь / под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. Москва: Политиздат, 1990. С. 111-112.
- Каган М. С. Человеческая деятельность. Москва: Политиздат, 1974. 331 с.
- Карзенкова Е. П., Салимовский В. А. К экспликации понятия коммуникативной категории // Стереотипность и творчество: по матер. Междунар. научн. конф. (Пермь, 5-7 октября 2005 г.). Межвуз. сб. научн. тр. Пермь: Изд-во «Пермский университет», 2005. Вып. 9. С. 98-104.
- Карзенкова Е. П. Коммуникативно-речевая категория дружба // Вестник Пермского университета: Российская и зарубежная филология. 2011. Вып. 2(14). С. 89-94.
- Карзенкова Е. П. Дискурс близких взаимоотношений: любовь как стихия // Проблемы социо- и психолингвистики: Социокультурный аспект речи провинции. Вып 8. Пермь: Изд-во «Пермский университет», 2006. С. 165-173.
- Карзенкова Е. П. Дружба как личностно ориентированная коммуникативно-речевая категория (на материале Интернет-переписки) // Проблемы социо- и психолингвистики. Вып.14: Языковое пространство XXI в. Пермь: Изд-во «Пермский университет», 2010. С. 151-166.
- Кожина М. Н. Речеведение и функциональная стилистика: вопросы теории: Избранные труды. Пермь: Изд-во «Пермский университет»; «Прикамский современный социально-гуманитарный колледж». 2002. 475 с.
- Кон И. С. Дружба: Этико-психологический очерк. Москва: Политиздат, 1989. 352 с.
- Матвеева Т. В. Корректность речевого противодействия // Культурные практики толерантности в речевой коммуникации. Екатеринбург: Изд-во «Уральский университет», 2004. С. 183-196.
- Мехонина Е. Н. О понятии коммуникативно-речевой категории и методике её описания // Филология в XXI веке: методы, проблемы, идеи: материалы Всеросс. науч. конф. (Пермь, 8 апреля 2013 г.) / Отв. ред. Н. В. Соловьева. Пермь: Изд-во «Пермский государственный национальный исследовательский университет», 2013. С. 231-237.
- Михайлова О. А. Толерантность в речевой коммуникации: когнитивные, прагматические и этические основания // Культурные практики толерантности в речевой коммуникации. Екатеринбург: Изд-во «Уральский университет», 2004. С.15-26.
- Мишланов В. А., Салимовский В. А. Дискурс враждебности как социальный феномен // Язык вражды и язык согласия в социокультурном контексте современности. Екатеринбург: Изд-во «Уральский университет», 2006. С. 56-66.
- Немов Р. С. Дружба // Немов Р. С. Психология в 3-х кн. Книга 1: Общие основы психологии. Москва: Владос. 2001. С. 601-604.
- Парыгин Б. Д. Анатомия общения. Санкт-Петербург: Изд-во Михайлова, 1999. 301 с.
- Петровский А. В. Категории психологии: Дружеское общение // Петровский А. В., Ярошевский М. Г. Психология. Москва: ACADEMIA, 2001. С. 253-255.
- Салимовский В. А. Любовь в речевом выражении // Прямая и непрямая коммуникация. Саратов: Колледж, 2003. С. 302-309.
- Стернин И. А. Понятие коммуникативного поведения и проблемы его исследования // Русское и финское коммуникативное поведение. Воронеж: Изд-во «Воронежский технический университет», 2000. С. 4-20.
- Стернин И. А., Шилихина К. М. Коммуникативные аспекты толерантности. Воронеж: Истоки, 2001. 136 с.
- Шаманова М. В. Коммуникативная категория в языковом сознании (на материале категории «общение»). Дисс. ... докт. филол. н. Воронеж, 2009.
- Шаховский В. И. Лингвистическая теория эмоций. Москва: Гнозис, 2008. 416 с.
- Якобсон Р. О. Лингвистика и поэтика // Структурализма «за» и «против». Москва: Прогресс, 1975. URL: // http://philology.ru/linguistics1/jakobson-75/htm (дата обращения 27.04.2018).
- Блок А. А. Собр. соч. в 8 тт. Т. 8.: Письма 1898-1921 гг. Москва; Ленинград: Художественная литература, 1963.
- Левитан И. И. А. П. Чехову URL: http://isaak-levitan.ru/ letters.php;www.antoncchehov.ru (дата обращения: 27.06.2018). - IV
- Левитан И. И. Письма Исаака Левитана Чехову, Третьякову, Поленову, Дягилеву URL: // http//isaak-livitan.ru/letters.php (дата обращения: 27.06.2018). - V
- Мандельштам О. Э. Собрание сочинений в 4-х тт., т. 3-4. Москва: Терра-Тегга, 1991. 607 с.
- Переписка В. И. Вернадского с Б. Л. Личковым: 1940-1944. Москва: Наука. 1980. 224 с. URL: http://arran.ru/bookreader/publication.php?guid=04C8E643-D994-1DFC-51CF-E217EB38FAE5&ida= 1 &kod=9#page/1 /mode/2up (дата обращения: 27.06.2018).
- Переписка А. С. Пушкина. В 2-х т. Москва: Художественная литература. 1982. Т. 1. 496 с.
- Переписка А. С. Пушкина. В 2-х т. Москва: Художественная литература. 1982. Т. 2. 576 с.
- Переписка А. П. Чехова в 2-х тт. Москва: Художественная литература, 1984. Т. I. 552 с.; Т. II. 440 с.
- Чехов А. П. Неизданные письма. Москва; Ленинград: Госиздат, 1930. 236 с.
- Чехов А. П. Собр. соч. в 12 тт. Москва: Художественная литература, 1956. Т. 12. 711 с.
- Якобсон Р. Роман Якобсон: Тексты, документы, исследования. Москва: Изд-во «Российский гуманитарный университет», 1999. 920 с.