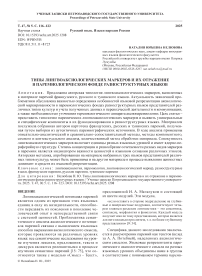Типы лингвоаксиологических маркеров и их отражение в паремиологическом фонде разноструктурных языков
Автор: Нелюбова Н.Ю.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Разноаспектный анализ паремиологических единиц языков народов России
Статья в выпуске: 5 т.47, 2025 года.
Бесплатный доступ
Предложена авторская типология лингвоаксиологических маркеров, выявленных в материале паре мий французского, русского и тувинского языков. Актуальность заявленной проблематики обусловлена важностью определения особенностей языковой репрезентации аксиологической маркированности в паремиологических фондах разноструктурных языков представителей различных типов культур и учета полученных данных в переводческой деятельности и коммуникации, а также необходимостью уточнения терминологического аппарата аксиопаремиологии. Цель статьи – представить типологию паремических лингвоаксиологических маркеров и выявить универсальные и специфические компоненты в их функционировании в разноструктурных языках. Материалом послужила собранная автором картотека французских, русских и тувинских паремий, полученная путем выборки из аутентичных паремиографических источников. В ходе анализа применены описательно-аналитический и сравнительно-сопоставительный методы, методы компонентного, семного и контекстуального анализа, количественный метод обработки материала. Совокупность лингвоаксиологических маркеров включает единицы разных языковых уровней и имеет ядерно-периферийную структуру. Степень концентрации и разнообразие сочетаемости разных видов маркеров в паремиях является индикатором важности ценностей в языковом сознании различных этносов. Авторская методика, апробированная на материале выбранных трех языков представителей различных типов культур, может быть применима и на другом материале в процессе выявления ценностных доминант и средств их языковой репрезентации.
Лингвоаксиология, паремиология, лингвоаксиологический маркер, разноструктурные языки, французские паремии, русские паремии, тувинские паремии
Короткий адрес: https://sciup.org/147250804
IDR: 147250804 | УДК: 811.511.11+81'25 | DOI: 10.15393/uchz.art.2025.1208
Текст научной статьи Типы лингвоаксиологических маркеров и их отражение в паремиологическом фонде разноструктурных языков
Лингвоаксиологический потенциал паремий является одним из признаков этих языковых единиц в силу их назидательности, способности передавать из поколения в поколение человеческий опыт в непосредственной связи с системой ценностей. Проблематика семантического анализа аксиологического потенциала паремий связана с выявлением языковых способов выражения аксиологического смысла, которые проявляются на различных уровнях языка: все семантические исследования на уровне изучения лексики, предложения, текста и дискурса являются релевантными в процессе изучения семантики паремий [15: 75], что соотносится также с моделью «Смысл – Текст», предложенной И. А. Мельчуком и состоящей из шести модулей. Эти модули,
«если оставить в стороне подразделение на глубинные и поверхностные подуровни, соответствуют четырем главным разделам лингвистики – это семантика, синтаксис, морфология и фонология. Каждый модуль получает имя по тому представлению, которое является для него входным при синтезе, т. е. по более глубинному представлению» [9: 34].
Специфика данного исследования заключается в рассмотрении паремий как текстов (вслед за А. А. Потебней), наделенных аксиологическим смыслом. Языковые репрезентанты паре-мического аксиологического смысла на разных языковых уровнях объединены нами в группы в соответствии с пониманием термина пареми-
ческие лингвоаксиологические маркеры , определяемого нами как совокупность разноуровневых лингвистических средств выражения оценки применительно к исследованию отражения ценностей в языке. Наиболее актуальным аспектом указанной проблемы нам представляется выявление особенностей языковых средств выражения аксиологической маркированности и их сочетаемости в паремиологическом фонде разноструктурных языков с целью их учета в коммуникации и переводческой деятельности. Выбор языков обусловлен принадлежностью их носителей к разному типу культур, отражающих западную (французскую) и восточную (тувинскую) традиции, а также евразийскую (русскую), соединяющую ценностные ориентации Азии и Европы. Актуальность выбранного направления обусловлена также необходимостью уточнения терминологического аппарата лингвоаксиологии, в том числе в рамках аксиопаремиологии (термин О. В . Ломакиной).
Цель данной статьи – представить типологию паремических лингвоаксиологических маркеров и выявить универсальный и специфический компоненты в их функционировании в разноструктурных языках. Материалом послужила авторская картотека паремий французского (2007 единиц), русского (10407 единиц) и тувинского (327 единиц) языков, полученная путем выборки из аутентичных словарей французских1, русских2 и тувинских3 пословиц и поговорок. Количественная разница состава картотеки в трех языках объясняется различной степенью изученности, фиксации и лексикографической обработки паремиологического материала и существенно не влияет на полученные результаты в связи с поставленной целью. В современных лингвистических исследованиях паремий реализуются различные подходы, которые сформулированы и успешно апробированы современными учеными [2: 268–270], [4: 234]. В данной работе в качестве методологической базы нами использован лингвокультурологический подход, основанный на изучении взаимодействия языка и культуры и позволяющий представить значение паремии с опорой на имеющуюся культурную информацию, в отдельных случаях – историкоэтимологический подход, предусматривающий поиск универсального и национально-специфического в структуре паремий и их содержании. В процессе исследования применены описательно-аналитический и сравнительно-сопоставительный методы, методы компонентного, семного и контекстуального анализа. В процессе изучения практического материала в ряде слу- чаев мы обращались к количественному методу обработки материала.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ паремиологического материала разноструктурных французского, русского и тувинского языков показал, что паремические лингвоаксиологические маркеры образуют систему, входящую в состав аксиологического паремио-пространства и имеющую ядерно-периферий-ную структуру, соотносящуюся с основными выявленными типами.
Лингвоаксиологические маркеры лексического уровня
В первую очередь к лингвоаксиологическим маркерам относятся лексические единицы, семантически связанные с определенными ценностями, которые, как правило, являются ключевыми компонентами паремий. Нами было выделено четыре типа единиц.
К первым отнесем лексемы (в том числе однокоренные), эксплицитно представляющие ценности, антиценности или понятия, связанные с ними. Например, на соотношение с ценностью семьи указывают ключевые компоненты-номинации родственных связей, что является универсальной особенностью материала трех языков. Однако этноспецифический элемент, обусловленный типом культур, а именно антропоцентрич-ностью французской культуры и социоцентрич-ностью русской и тувинской, ориентированных в большей степени на традиционный уклад и коллективные семейные ценности, наблюдается в выборе номинаций. Так, во французских паремиях упоминаются в основном ближайшие родственники: mère, maman ‘мать, мама’; enfant(s) ‘ребенок, дети’; fille ‘девочка, дочь’; fils ‘сын’; frère ‘брат’; gendre ‘зять’; oncle ‘дядя’. В русских отмечается многообразие терминов родства: р одня; родители; дети; муж; мать; сын; отец; батька; дочь; брат; сестра; дед; внук(и); зять; свекровь; теща; сноха, невестка; невеста; золовка, золовушка; сват, сватья и др., связанное с традицией большой семьи, что раскрывается также в тувинском материале: төрел ‘родня’; ие, ава ‘мать’; ада ‘отец’; ада-ие ‘родители’; оол ‘сын’; кыс ‘дочь’; төл, чаш, уруг ‘дитя, ребенок’; кадай ‘жена’; дуңма ‘младший брат’; угба ‘старшая сестра’; күдээ ‘зять’; чеңге ‘невестка’; даай ‘дядя (брат матери)’; чээн ‘племянник, племянница’, где присутствует еще большая детализация в обозначении родственных связей.
Вторую группу составляют лексемы (в том числе однокоренные), имплицитно представляющие ценности, антиценности или понятия, связанные с ними, посредством метафорических образов, отражающих ценности / антиценности. К данной разновидности можно отнести разные типы метафор, с помощью которых выражается отношение к ценностям. В провербиальной метафоре важен не фактор сходства, а способность убеждать, аргументировать. При сравнении прямого и метафорического смысла пословицы важно, что она содержит общепризнанную истину. Следовательно, необходимо, чтобы метафорическое изречение так или иначе соответствовало этой истине. Интерпретация метафоры в пословице является процессом не столько семантическим, сколько прагматическим, в результате чего ее итоговая интерпретация становится конвенциональной, коллективной [14: 67–68].
Различные виды метафор и символов обладают существенным паремиообразующим потенциалом и могут быть как универсальными, так и этноспецифичными в различных языках. Часто встречается в паремиях разных культур зоометафора. Например, образ осла, который ассоциируется с упрямым невежеством и всегда оценивается отрицательно, выявляет через антиценность ценность ума и знаний; образ лошади связан с тем, кто выполняет тяжелую работу, а также встречается в контексте семейных отношений. Аксиологическим потенциалом обладают и образы насекомых. Например, образ пчелы может вызывать ассоциации с трудом и медом, имеющим не только пищевую ценность, но и в некоторых контекстах символизирующим мягкость характера человека [11].
Антропоморфная метафора актуализируется через наименования частей тела человека и его состояний (например, полный живот ассоциируется с сытостью и ценностью пищи; голова – с умом и его ценностью; руки – с трудом и пищей, так как иногда руками едят); гастрономическая метафора и символика – посредством соответствующих наименований (стол связан с ценностью пищи, символизирует гостеприимство и мирное разрешение конфликтов; хлеб символизирует богатство и достаток, помимо основной и самой важной пищи) и т. д. Важную аксиологическую информацию может нести символика чисел, которая обладает ярко выраженной национально-культурной спецификой. Например, числительное два может служить для усиления положительной и отрицательной оценки.
К третьей группе лингвоаксиологических маркеров лексического уровня относятся национальные лингвомаркеры, или этнолингвомарке-ры (термин О. В. Ломакиной) – компоненты паремий,
«которые запечатлевают национальное своеобразие, “культурную память” и могут не иметь прямых аналогов в другом языке, благодаря чему раскрывается этноспецифичность языкового знака» [7: 7].
Примерами маркеров данного типа во французском материале являются vigne ‘виноградник’ и vin ‘вино’, поскольку вино во французской лингвокультуре
«представляет одновременно и ценность, и концепт <…>. В пословицах и поговорках, номинирующих лингвокультурный концепт “вино” во французском языке, находят отражение такие вечные ценности, как добро, милосердие, любовь и забота о ближнем» [6: 43], а в данном случае виноградник, который выращивается с большим трудом, представляет ценность, а его молодые побеги символизируют крепкие семейные узы.
В русских паремиях это этноспецифические элементы-обозначения русских блюд и напитков, а также предметов, относящихся к русскому быту: каша; щи; блины; оладьи; брага; квас; печь; изба. С помощью данных наименований выражается ценность пищи и семьи, что наблюдается и в тувинском материале, где упоминаются различные части и внутренности животных, употребляемые в пищу: кудурук ‘курдюк’; ɵкпе ‘легкие’; бүүрек ‘почка’, поскольку основной пищей тувинского кочевого народа традиционно является мясная продукция, которая «остается “сердцем” тувинской кухни, как и во многих других азиатских культурах» [8: 4]. Кроме того, отметим компоненты ɵг ‘юрта’ [12]; аал ‘аал’ (традиционное тувинское поселение, состоящее из группы юрт и объединяющее несколько семей) и аът ‘лошадь, конь’ (конь для тувинцев всегда был и «остается одной из важных жизненных ценностей» [13: 170]).
К четвертой группе мы относим все лексемы общеоценочной семантики, которые эксплицитно выражают положительную / отрицательную оценку независимо от контекста или меняют ее в определенных контекстах. Во французском языке это, например, лексемы внеконтексту-альной оценочной семантики bon ‘хороший’, в том числе в превосходной степени (le) meilleur ‘лучше(ий)’; mauvais ‘плохой’; méchant ‘злой’; un festin ‘праздник’, le miel ‘мед’ (подразумевающий сладость), le fi el ‘горечь’, le besoin ‘нужда’; nuire ‘вредить’. Контекстуальная оценочность выявлена, например, у прилагательного rond ‘круглый’ (о столе как символе мирного решения вопросов): A ronde table n’y a débat pour être près du meilleur plat ‘За круглым столом нет споров о том, чтобы быть ближе к лучшему блюду’. В русском языке это компоненты добро, добрый, умный, сильный, злой, дурной, глупый, горе, беда и мн. др. Также многочисленны случаи употребления прилагательных и наречий в сравнительной и превосходной степени: дороже, лучше, хуже, меньше, шире. Отрицательная коннотация компонента больше выявлена в паремии Нелюбимое дитя больше ест. В тувинском материале представлены элементы хоралыг ‘вредный, опасный’; балалыг ‘причиняющий вред’; бак, багай ‘плохой’; чараш ‘красивый, красиво’; ажыг ‘горький’; анчыг ‘надоедливый, неприятный’; үрээр ‘портить’; мактаар ‘хвалить’; хүндү ‘почет, уважение’; кочу ‘насмешка, презрение’. У элемента чымчак ‘мягкий’ отрицательная коннотация может проявляться в контексте – по отношению к войлоку, кошме.
Единицы первых трех групп мы можем рассматривать как ядерные элементы системы аксиологических маркеров , поскольку они непосредственно несут смысловую аксиологическую нагрузку, будучи семантически связанными с определенными ценностями, а четвертый тип включает периферийные элементы , выражающие положительную / отрицательную или нейтральную оценку аксиологических денотатов ключевых компонентов, обеспечивая тем самым связь между центральными, ядерными элементами системы. Отметим, что одни и те же маркеры могут относиться одновременно к нескольким типам из указанных четырех: содержать эксплицитное указание ценности, выступать как метафорический образ и одновременно быть этнолингвомаркером и содержать оценочную семантику. Лингвоаксиологические маркеры лексического уровня используются в паремиях в сочетании с грамматическими маркерами, специфика которых часто обусловлена типологическими особенностями языков.
Лингвоаксиологические маркеры грамматического уровня и роль фонетических средств в создании экспрессивности паремий
На грамматическом уровне в трех языках важная роль принадлежит использованию прилагательных и наречий в сравнительной степени, о которой мы упоминали выше. Кроме того, выделяются различные синтаксические структуры, способные передавать важность следования принятым в обществе моделям поведения, обусловленным ценностными установками. Побуждение к совершению действия или, наоборот, призыв не совершать те или иные действия могут передаваться эксплицитно и имплицитно. К эксплицитным средствам во французских паремиях относится безличная конструкция il (ne) faut
(pas) / (не) нужно, выражающая долженствование. Данную функцию выполняет повелительное наклонение – самый распространенный способ выражения общепринятого сценария поведения посредством прямого выражения назидательности. В материале трех языков оно употребляется с разной частотностью.
Важность категории наклонения в выражении аксиологической семантики обусловлена тем, что она относится к категориям отношения,
«опирается на сугубо человеческие факторы и, в конечном счете, всегда антропоцентрична, поскольку устанавливает отношения такого рода: существует ли действие в реальности или оно имеет ирреальную природу, и как оно оценивается, квалифицируется говорящим» [5: 12].
С помощью соотношения частных значений форм повелительного и изъявительного наклонения выражают различные значения и разную степень выраженности воли: «мягкое побуждение (допущение, пожелание), умеренное побуждение (совет, рекомендация, уговор) или жесткое побуждение (приказ, запрет, отказ)» [5: 16].
К имплицитному выражению ценностных установок можем отнести преподнесение фактов как общеизвестных или общепринятых, что выражается во французских паремиях неопределенно-личным местоимением on , оборотом ne… que ‘только’; конструкциями с прилагательными tel ’такой, таков’, tout ‘всякий’, chaque ‘каждый’ (или неопределенным местоимением chacun ) / каждый, nul ‘никакой, ни один’; местоимением celui qui ‘тот, кто’; условными предложениями с союзом si ‘если’, которые показывают последствия определенных действий человека. Аналогичные конструкции встречаются и в русских паремиях.
С теми же целями в качестве подлежащего, то есть как субъект оценки, употребляются личные местоимения: 1-го лица je ‘я’, которое переносит ситуацию оценивания в плоскость «я-сферы» в функционально-семантическом поле оценки (см.: [10: 32]) и nous ‘мы’. В подобных случаях анонимные авторы пословиц имплицитно призывают последовать их собственному примеру. Местоимения 2-го лица tu ‘ты’ и vous ‘вы’, обращаясь непосредственно к адресату, показывают результаты их возможных действий. В целом важно отметить, что «неопределенное лицо и безличность во французском языке выражаются местоимениями, в русском – только лицом глагола» [3: 169].
Данные, приведенные Л. Б. Кацюбой, свидетельствуют о сведении к минимуму соотношений трех форм лица глагола внутри одного предложения в русских паремиях сложных кон- струкций, что объясняется тенденцией пословичных текстов к сокращенности, сжатости, лаконичности формы. Минимальное количество паремий с соотношением форм 1-го и 2-го лица обусловлено стремлением пословицы к анонимности, обобщенности смысла, высокой концентрации информации [5: 14]. Самыми продуктивными являются формы с соотношением 3-го и 2-го (2-го и 3-го) лица.
«Паремии с соотношением форм 3 лица и форм 2 лица представляют собой органичный симбиоз опыта и философских сентенций и одновременной передачи этого опыта конкретному адресату, обращении к непосредственному слушателю в форме совета, рекомендации, пожелания, наказа и т. д.» [5: 12].
Информативным показателем аксиологической семантики паремий в трех языках является употребление глаголов в отрицательной форме, а также единиц, выражающих отрицание: например, французский предлог sans ‘без’, русский предлог без , тувинское выражение отрицания чок ‘нет’. Наличие любого вида отрицания позволяет выразить желаемые с точки зрения ценностных установок действия через антисценарии, показывающие последствия нежелательных действий, усиливая тем самым назидательную составляющую паремий. В тувинских паремиях многочисленны примеры синтаксического параллелизма, при котором в одной части паремии содержится эксплицитная номинация ценности и ее оценка, а в другой – присутствует параллельный, усиливающий аксиологическую семантику анималистический, природный или любой другой важный для этноса образ или символ и его оценка. Таким образом,
«в фольклорных параллелизмах реалии природной среды, народного быта и традиционной деятельности транслируют стереотипы, ценности и миропонимание народа» [1: 40].
Наряду с указанными выше типами лингвоаксиологических маркеров, имеющих семантическую связь с ценностями и оценкой, важная роль принадлежит также фонетическим средствам. К ним относится определенная просодическая структура паремий, их ритмическая организация, в которой наблюдаются разные виды повторов (ассонанс, аллитерации). Окончательную форму паремиям придает рифма, с помощью которой внимание акцентируется в том числе на дидактическом аспекте паремий, а именно на передаче в них ценностных ориентаций: подобные языковые средства способствуют запоминанию необходимых ценностно обоснованных сценариев поведения в различных жизненных ситуациях.
Например, во французских паремиях о труде зафиксированы следующие примеры рифмы:
fermier – fumier ‘фермер – навоз’; laboureur – le meilleur ‘пахарь – лучшее’; soin – rien ‘забота – ничто’; pleurs – bonheur ‘плач – счастье’; paresse – richesse ‘лень – богатство’; ou vrier – payé ‘работник – оплачиваемый’; vin – médecin ‘вино – врач’; raisins – médecin ‘виноград – врач’, а также повтора ключевых лексем со значением ‘труд, работа, дело’ (ouvrage … ouvrage; labeur … labeur).
В русских паремиях были выявлены следующие примеры рифмопар:
труда – пруда; труда – лебеда; сошка – крошка; труды – плоды; молотом – голодом; поварне – овчарне; плужком – пирожком; (на) печи – помолчи; поспела – дело; потрудиться – уродиться; лежать – не достать; не станеш ь – протянешь; ретив – ленив.
В тувинском материале аналогичной тематики многочисленны случаи рифмы:
кырызын – кижиниң ‘локтевой кости – человека’; кылыр – чиир ‘делать – есть’; довурактан – малгаш-тан – чуртталгаң ‘из земли (грязи) – из жидкой грязи – твоя жизнь’; өɵнге – өɵрүнге ‘в юрте – у друзей’; какпас – ораашпас ‘не ударит – не запутает’; кадарчы-га – хаалгага ‘пастуху – двери’; эътке – ишке ‘мясо – работу’; кежээниң – чалгааның ‘трудолюбивому – ленивому’; бажым – суксадым ‘моя голова – пить хочу’; шалыпчыда – чалгаапайда ‘у ударника – у лентяя’ и повторов:
ажыдар … ажыдар ‘раскрывает … раскрывает’ ; шевери … шевери ‘мастерство … мастерство’ ; хе-рек … херек ‘надо … надо’ ; чуртталгаң … чуртталгаң ‘твоя жизнь … твоя жизнь’; дескен … дескен ‘убежавший … убежавший’; дүжер … дүжер ‘упадешь … упадешь’; болбас … болбас ‘нельзя … нельзя’; дыынмас … дыынмас ‘не режет … не одолеет’ ; мурнунда … мурнунда ‘перед … перед’; кижиниң … кижиниң ‘человека … человека’; кижи … кижи ‘человек … человек’; дээр … дээр ‘говорит … говорит’; хуваарга … хуваарга ‘распределяют … распределяют’; ɵɵнде … ɵɵнде ‘в юрте … в юрте’; чок … чок ‘нет … нет’.
Сочетаемость разных типов лингвоаксиологических маркеров во французских, русских и тувинских паремиях
Важно подчеркнуть, что выявленные нами типы лингвоаксиологических маркеров выступают в паремиях в разной сочетаемости, проявляя различную степень концентрации. Максимальная степень концентрации маркеров усиливает степень выраженности в них аксиологической семантики и экспрессивности.
В материале нашей картотеки был выявлен ряд примеров, в которых каждый элемент представляет собой тот или иной лингвоаксиоло- гический маркер, что наблюдается, в частности, во французской паремии Qui est loin de son écuelle est près de son dommage ‘Кто находится далеко от своей миски, близок к разорению’ о важности хозяйского присмотра за своим имуществом, позволяющего сохранить его. Компонент écuelle ‘миска’ – маркер первого типа, так как представляет собой наименование посуды и имеет непосредственное отношение к ценности еды; если рассматривать ее как метафорическое обозначение еды, то можно отнести данный маркер ко второму типу. Компонент dommage ‘разорение’ может быть рассмотрен как маркер первого типа, эксплицитно обозначающий понятие, связанное с бедностью как антиценностью, и четвертого типа, так как характеризуется оценочной семантикой. Наконец, специфику аксиологической семантики создает контекстуальная оценочность маркеров четвертого типа loin de – près de ‘далеко – близко’, находящихся в отношениях контраста, усиливающего экспрессивную составляющую паремии. В результате с помощью такого сочетания передается призыв находиться поближе к еде (чтобы никто ее не присвоил), что позволит не разориться. К грамматическим маркерам в данном примере относится синтаксическая конструкция, начинающаяся на qui ‘(тот), кто’, с помощью которой передается общепринятая оценка: всякий, кто что-то совершает, получает определенный результат. Данные паремии имплицитно назидательны и предупреждают о последствиях тех или иных поступков или ситуаций.
В качестве примера из картотеки русских паремий приведем единицу Счастлив тот, кто вина не пьет , в которой маркерами первого типа являются компоненты счастлив (эксплицитно обозначает ценность счастья); вино и пьет (в данном случае наименование напитка и форма глагола пить передают не только связь с ценностью пищи в широком смысле, но и связаны с пьянством как антиценностью). Компонент вино можно отнести и ко второму типу, если рассматривать его как символ злоупотребления спиртными напитками. К грамматическим маркерам относится обобщающая конструкция тот, кто и отрицательная форма глагола, выражающая ценность счастья через антисценарий: рекомендацию не пить вина. Экспрессивность повышается за счет фонетического средства – рифмы тот – не пьет .
Максимальная концентрация лингвоаксиологических маркеров выявлена также в тувинской паремии Тɵрел багы – аал чуду, тɵл багы – ɵг чуду ‘С плохой родней – аалу позор, с плохим дитем – юрте позор’, где три компонента: төрел ‘родня’, тɵл ‘дитя’, ɵг ‘юрта’ и аал ‘аал – cтойбище (3–4 юрты)’, являются маркерами первого типа, эксплицитно номинируя понятия, связанные с ценностью семьи и обширных родственных связей. Компоненты багы ‘плохой’ и чуду ‘позорит’ представляют собой внеконтекстуаль-ные маркеры четвертого типа, экспрессивность данной паремии повышается за счет повтора данных двух единиц в пределах параллельной синтаксической конструкции (грамматический маркер). Высокая плотность маркеров свидетельствует о высокой степени значимости семьи как ценности в сознании тувинцев.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенная нами типология паремических лингвоаксиологических маркеров и примеров их представления в материале разноструктурных языков (французском, русском и тувинском) позволяет заключить, что в контексте изучения языкового выражения ценностного аспекта семантики паремий в рамках аксиологической паремиосистемы функционирует включающая ядро и периферию совокупность лингвоаксиологических маркеров, проявляющихся на разных языковых уровнях. К ядру относятся ее значимые лексические элементы, имеющие непосредственную семантическую связь с отдельными аксиологическими доминантами, или концептосферами, номинирующими ценности, антиценности или понятия, связанные с ними напрямую или посредством метафорических образов или символов, а также этнолингвомаркеры. К периферии относятся элементы грамматического и фонетического уровней, обеспечивающие семантические аксиологические связи между ядерными звеньями системы, дополняющие и в конечном счете выстраивающие в своей совокупности аксиологическую семантику паремий.
Высокая концентрация и разнообразная сочетаемость разных видов маркеров в пределах конкретных паремий свидетельствует о высокой степени значимости определенных ценностей в языковом сознании этносов, представляющих различные типы культур, что является проявлением универсальных тенденций, которые выражаются преимущественно с помощью маркеров первого типа и некоторых маркеров второго и четвертого типов. Этноспецифическая составляющая находит отражение в основном в этнолингвомаркерах, а также в специфике метафорических образов (маркеры второго типа) и контекстуальных реализациях некоторых маркеров четвертого типа. Специфика грамматических маркеров связана со структурными особенностями языков. В качестве универсального средства создания специфической ритмической организации в трех языках выступает рифма.
Проведенное исследование можно рассматривать как перспективное в применении представленной авторской классификации и методики анализа, апробированной на материале трех язы- ков представителей различных типов культур, на ином материале других языков в процессе выявления ценностных доминант и средств их языковой репрезентации.