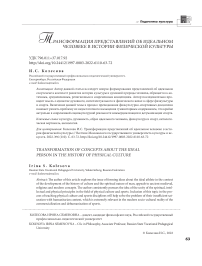Трансформация представлений об идеальном человеке в истории физической культуры
Автор: Колесова Ирина Семеновна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Педагогика культуры
Статья в выпуске: 6 (110), 2022 года.
Бесплатный доступ
Автор данной статьи исследует вопрос формирования представлений об идеальном спортсмене в контексте развития истории культуры и духовной природы человека, обращается к античным, средневековым, религиозным и современным концепциям. Автор последовательно проводит мысль о единстве духовного, интеллектуального и физического начал в сфере физкультуры и спорта. Включение данной темы в процесс преподавания физкультурно спортивных дисциплин поможет решить проблему их недостаточного насыщения гуманитарным содержанием, что крайне актуально в современной социокультурной реальности коммерциализации и дегуманизации спорта.
Культура, духовность, образ идеального человека
Короткий адрес: https://sciup.org/144162496
IDR: 144162496 | УДК: 796.011+37.017.92 | DOI: 10.24412/1997-0803-2022-6110-63-72
Текст научной статьи Трансформация представлений об идеальном человеке в истории физической культуры
63-72. (In Russ.).
Актуальность прдлагаемой темы состоит в том, что физическая культура и спорт обладают огромным ценностным потенциалом не только в формировании двигательных умений, навыков, но и в воспитании и совершенствовании духовной природы личности. Предпосылки для этого содержатся уже в самом термине «физическая культура», в котором переплетены, сосуществуя в неразрывной связи, культурная и физическая составляющие данного понятия.
Исходя из положения о том, что физическая культура является частью общей культуры – как личности, так и общества, можно констатировать, что в рассматриваемой словесной диаде ключевая роль принадлежит слову «культура». Несмотря на это преподавание дисциплин физкультурно-спортивной направленности в образовательных учреждениях осуществляется преимущественно в позитивистском ключе. Данный подход в преподавательской деятельности необходим для решения частных вопросов, но вряд ли приемлем для раскрытия методологических оснований и базовых определений, в которых фокусируется содержательно-сущностный компонент, раскрывающий смысловую специфику не только какой-либо физкультурноспортивной дисциплины, но и суть физкультуры и спорта в целом.
В этом плане архиважным представляется насыщение содержательной составляющей дисциплин, предназначенных для изучения будущих специалистов в сфере физкультуры и спорта, материалом гуманитарного характера, когда на первое место выходит человек как величайшая ценность и высший смысл, а не индивид, усвоивший определенные компетенции, умения и навыки, прописанные в образовательном стандарте. Наше мнение таково, что наиболее действенным способом разрешения выявленной дилеммы является настоятельное указание на то, что развитие спорта неразрывно связано с процессом осмысления идеального образа человека. В противном случае ускользают и остаются недораскрытыми, недосказанными духовные смыслы спорта, определяющие его культурное значение и весомую роль в воспитании молодых людей.
Опора на исторический, а также диалектический методы в исследовании позволяет рассматривать спорт как изменяющийся феномен, находящийся в непрерывном становлении и развитии. Применение данных методов вкупе с герменевтическим подходом дает возможность проследить трансформации антрополого-аксиологического и гуманистического аспектов спортивной деятельности и с неумолимой логикой подводит к мысли о том, что истоки спорта связаны с игровой деятельностью в ее тесном переплетении с мифологическим, религиозным и ритуальным творчеством.
Теоретической базой исследования являются классические тексты, раскрывающие феномен физкультуры и спорта как в историческом и гуманитарном планах, так и в философском аспекте. Основополагающую роль для формирования авторской позиции и направленности исследования сыграли подходы, предложенные Платоном, А. Ф. Лосевым, представителями христианской патристики, а также Л. Мамфордом, М. Хайдеггером, Й. Хейзингой.
Практическая значимость исследования проявляется в том, что его материалы можно использовать в преподавательской дея-
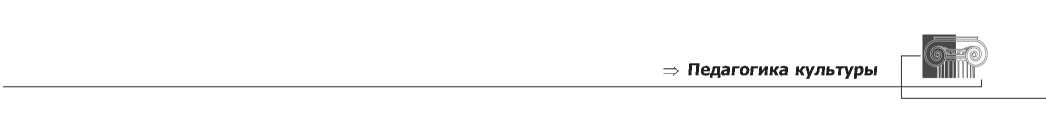
тельности для обновления и модернизации образовательного процесса, формирования общекультурных компетенций у обучающихся. Также презентуемый текст содержит определенный потенциал для формирования новых концептуальных оснований в преподавании физкультурно-спортивных дисциплин с акцентированием на их аксиологической и гуманитарной наполненности.
В данной статье мы предприняли попытку обозначить некоторые черты идеального образа спортсмена, которые изменялись в каждую историческую эпоху в соответствии с доминированием тех или иных духовных ценностей, отражающих многообразие духовного, социокультурного опыта человека.
Собственно, становление спорта как культурно-социального феномена сопровождалось поисками идеальных представлений о человеке. Более того, именно антропологоаксиологическая составляющая, а не превалирование политических, идеологических или экономических сторон, придает спорту духовную значимость и глубину. Духовные ценности, выработанные человечеством в процессе исторического развития, ассимилировались в сфере спорта и оказывают несомненное влияние на жизненные интенции, а также – на экзистенциальные потребности людей. Уяснение первоначальных смыслов спорта крайне важно не только для раскрытия его природы, его культурной значимости, но и для постижения таинственной сущности человека.
Эти идеи особенно злободневны в современную эпоху коммерциализации и дегуманизации спорта. Полагаем, что данная идейная направленность поможет не только преодолеть гегемонию позитивистского подхода, достигнуть паритета между естественнонаучной и гуманитарной составляющей в преподавании физкультурно-спортивных дисциплин, но и открыть инновационные пути научных исследований в сфере физкультуры и спорта.
Раскрытие духовных смыслов спорта значительно расширит кругозор, эрудицию, обеспечит более прочные основания для выстраивания мировоззренческой позиции будущих специалистов в сфере физической культуры. Вербализация представлений о совершенном человеке, обогатив сухой, лишенный эмоций язык педагогических «штудий» по теории, практике и организации физвоспитания, вовлечет в живой трепетный процесс творческого осмысления идейного и практического опыта прошлого.
Осознание духовной природы спорта, его влияния на конструирование идеальной модели человека также инициирует процесс формирования критического мышления обучающихся. На его основе генерируется собственное мировоззрение, вырабатывается представление об истинной сущности физической культуры и спорта, что, несомненно, оказывает положительное воздействие на организацию физкультурной и спортивной деятельности в современных реалиях.
Наше мнение таково, что игровое начало, а, следовательно, и правила ведения игры, присутствуют во всех видах спорта. Игровую деятельность можно трактовать как основополагающий бытийный способ человеческого существования, при помощи которого человек осознавал мир, свое предназначение, оценивал прошлое, конструировал будущее, «культивировал человечность» [14].
В игре человек манифестировал миру о своей человеческой сущности, и, продвигаясь по пути поисков высших смыслов, утверждал себя человеком.
Крупнейший теоретик игровой деятельности Й. Хейзинга в работе «Homo Ludens» предоставил множество фактов того, что именно игры и состязания, обладая культуросозидающей функцией, оказывали мощнейшее влияние на формирование человеческой культуры [15].
Комментируя мысли Й. Хейзинги, американский ученый Л. Мамфорд писал: «Ритуал и мимесис, спорт, игры и драматические представления избавили человека от настойчиво проявлявшихся в нем животных привычек» [8]. Полемизируя с известными выкладками трудовой теории К. Маркса и Ф. Энгельса, Л. Мамфорд предлагает идею о первичности
«нематериальных элементов культуры» в развитии древнего человека. Еще до обретения технического мастерства по изготовлению орудий труда человек выделился из среды животных умением производить символы: «… Он создал среду в миниатюре, символическую игровую площадку, на которой все жизненные функции получили возможность переоформления в строго человеческом стиле, как бывает в игре» [8].
Таким образом, включаясь в игровое или ритуальное действие, сакральное по сущности, человек созидал культурные ценности. Переводя важнейшие смыслы, заключенные в них, в статус традиционных, он предохранял от падения и разрушения, обеспечивал прогрессивное развитие рождающейся цивилизации. Тем самым он преображал себя, становился участником космического сотворения нового мира.
В античную эпоху данная проблема получает философскую интерпретацию, прежде всего, у Платона в его рассуждениях о священном характере игры. Широко известно высказывание Платона о том, что боги выдумали человека словно игрушку, предопределив тем самым его высшее предназначение – «проводить жизнь в игре <…> дабы расположить к себе богов» [10].
В поисках паритета между различными сферами человеческого бытия в «Тимее» создатель объективного идеализма советует тем, кто стремится к совершенствованию, развивать не только интеллект, занимаясь философией и наукой. Благородный эллин, заботясь о душевном росте, должен уделять внимание изучению музыки, искусств, а также прибегать к гимнастике, чтобы тело «слушалось благородной души» (Платон). Таким образом, достижение идеального образа человека невозможно без кипучего, динамичного стремления к совершенству и в физической, и в художественной, и в интеллектуальной сферах. Деятельность эта носила агонический характер. Дух состязательности, сопровождавший ее, побуждал человека к действию, стимулировал стремление к напряженной работе во имя грядущих побед. Но только освящен-ность спортивных ристалищ, как, впрочем, и любого из видов человеческой деятельности, служила гарантией успеха на избранном поприще.
Боги не только покровительствовали олимпионикам, но и сами становились агонистами, участниками соревнований. Сакральный же характер состязания, склоняя побежденного к смирению, предохранял от проявления излишней агрессивности и злобы. Жестокость и насилие, проявляемые в соревнованиях, осуждались. Сарказмом полны эпиграммы Лукиллия «На кулачных бойцов»:
«… В Писе лишился я уха, без глаза остался в Платее
В Дельфах с арены меня замертво вынесли вон…» [7].
Агональность воспринималась древними греками как честная борьба, в которой проявлялся творческий потенциал спортсмена, стремящегося подражать Олимпийским небожителям. Являясь адептами божественного провидения, существуя на стыке фатализма и героизма, с неизбежностью втягиваясь в круговорот предопределенных событий, олимпионики обязаны были совершать подвиги. Ибо, прежде чем утвердиться на Олимпе в эпоху титаномахии, подвиги совершали боги. Онтологическая вертикаль как духовный архетип, выросший на почве античной космологии, порождала неуемное стремление героев к абсолютному совершенству, соотносимому с божественным. Действительно, космологические взгляды древних греков таковы, что Космос довлеет над человеком как совершенное над несовершенным, как целое над частью, абсолютное над относительным, то есть в духовном смысле [6, с. 153–170].
Эти моменты, несомненно, повлияли на формирование образа идеального атлета, который описывался через термин калокага-тия (kalos – красивый, прекрасный, agathos – добрый, то есть уважающий своего противника).
В античных статуях – шедеврах «великой пластики» – зафиксировано телесное вели- колепие Зевса, Аполлона, Геракла, других древнегреческих богов, героев и атлетов. Их телесная красота не в превалировании мышечной массы, как у современных бодибилдеров. Они прекрасны не только потому, что сотворены в соответствии с каноническими установками Поликтета. Вечная гармония этих идеальных образов базируется на уравновешенном единстве, калогатийном синтезе пропорционального, сильного тела и любви к мудрости, стремления к абсолютной космологической одухотворенности. «Античность – скульптурна» [5].
Древнегреческие ваятели, воплощая в мраморе великолепие обнаженного сильного тела, одновременно символизирующего духовную возвышенность воспроизводимой модели, утверждали тем самым гармонию тела и разума, воспроизводили идеальный тип совершенного человека, уподобленного богам.
С наибольшей полнотой представление о человеке, ориентированном на идеал кало-кагатии, сочетающем богатство духовного мира, интеллектуальную культуру и хорошую физическую форму, выразилось в концепции Олимпийских Игр, устраиваемых изначально как религиозный праздник в честь верховного бога Зевса и его супруги Геры. Однако с течением времени состязательность, затмив религиозный священный характер Олимпийских игр, выходит на первый план.
Отказ от идеалов калокагатии, от стремлений к достижению идеального гармонического образа профанирует Олимпийские Игры. Допуск к участию в них не только свободных эллинов, но и варваров, не имеющих ни гимнастического, ни ‘эстетического, даже элементарного, образования, превращает ритуальное действо, наполненное высшими смыслами, в развлекательное зрелище.
Зачастую участники Олимпийских Игр не обладали универсальной тренированностью. Жажда славы, почестей, наград приводит к специализации, которая, приобретая черты спортивной практики, окончательно вымещает первоначальные религиозные и культурные смыслы Игр. Соревнователь- ная и тренировочная деятельность теряют высоту духовного подвига, становясь рутиной, обыденной работой, лишенной трансцендентного смысла. Стремление к удовлетворению элементарных чувственных потребностей, жажда зрелищ, являясь показателем мировоззренческого, социального кризиса, привели к деградации Олимпийских игр.
Христианство, занявшее доминирующие позиции в духовной жизни средневековой Европы, завершило процесс их вырождения. Раннехристианские апологеты, усмотрев в проведении Олимпийских Игр культивирование языческих обрядов и праздников, выступили с их резкой критикой. «Нельзя без срама смотреть на все то, что происходит на стадионе: на кулачный бой, на попирание ногами, на пощечины и другие буйства, попирающие лицо человек, созданного по образу Божию»,– негодовал один из зачинателей патристики Тертуллиан [12]. Тертуллиану же принадлежит его знаменитый тезис, ставший классическим, выражающий отношение христианской Церкви к спортивным состязаниям: «Благоговея к религии, ты не станешь одобрять безумного бега, бешеных движений, сопровождающих метание диска», а также движений борцов, похожих «на изваяния адской земли» [12].
Эти высказывания авторитетного представителя латинской патристики дают основания полагать, что христианские мыслители не относились к занятиям физкультурой и спортом аксиологически нейтрально. Как правило, рассматривая становление физической культуры и спорта, многие теоретики отмечают негативное отношение к этим феноменам со стороны христианской Церкви. Интеллектуальная рефлексия источников христианской культуры дает право усомниться в безоговорочной однозначности этих, ставших традиционными, утверждений. Можно, во-первых, привести аналитический текстовой материал, расширяющий представление об идеальном человеке, о телесности, о физкультуре и спорте в их христианском понимании, а во-вторых, напомнить о лояльном отношении христианских апологетов к рыцарским играм, турнирам, а также к физическим упражнениям, которыми занимались рыцари для успешных выступлений на состязаниях.
Для начала обратимся к Библии, в которой можно найти обширный материал для осмысления спортивной деятельности в контексте христианской традиции. Прежде всего, следует напомнить, что доминантой средневекового мировоззрения становится не Космос, но божественная личность, утверждающая ценностную топологию «верха». «Низ», к каковому относилось тело, вступало в союз с духом, субстанцией «верха». Исходя из этого, широко распространенное мнение о пренебрежении и умалении тела в христианстве нельзя считать верным. В Библии акцентируется уважительное отношение к нему как вместилищу Святого Духа: «Тела ваши суть храм живущего в вас Святого Дуxa, которого имеете вы от Бога <…>. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божие» (1 Кор. 6:19–20)
Действительно, христианская антропология имеет своим предметом человека, созданного по образу и подобию Бога. В стройной антропологической системе св. Григория Нисского устройство человека представлено как «смесь из умственного и чувственного», как синтез природы земной с природой сверхъестественной. [11].
Каппадокийский Отец Церкви сравнивает образ Божий в человеке с отражением в зеркале. Если зеркало повернуть под углом, то отражения не будет видно. Потеряв ориентир, человек может утратить образ Божий в себе, но потенциальная возможность заново обрести Его остается всегда.
Считается, что впервые о спортивных играх в контексте христианского мышления заговорил апостол Павел, знаток истории Олимпийских игр и их участник. Ему принадлежит знаменитое высказывание: «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить» (1Кор. 9:24) Вряд ли этот тезис следует воспринимать лишь как одобрение и призыв к спортивным занятиям со стороны христианских апологетов. Его адекватная интерпретация выводится с учетом особенностей христианского мышления, а также толкований этого высказывания Отцами Церкви. Так, авторитетный русский библеист и знаток Священного Писания А. П. Лопухин полагает, что апостол Павел советует для победного выступления на играх тренировать не только тело, но и дух: «…усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным» (1Кор. 9:24–27). Именно самоотречение и концентрация духовных сил приведут к получению награды не в виде кубка или медали, но Царствия Небесного [13].
К Царствию же Небесному путь сложен и тернист. Для его преодоления необходимо здоровое, тренированное тело. Однако лишь «телесное упражнение мало полезно» без упражнений в благочестии. Ибо благочестивый человек не будет подрывать телесную мощь грехом, поскольку «благочестие на все полезно» и потому первенствует над телом (1 Тим. 4,8).
Таким образом, библейское представление об идеальном человеке включает архетип онтологической вертикали, который, подобно исходной идее, имплицирует устремленность к познанию духовного начала во имя соединения с Ним. Данная интенция сопряжена с нравственным совершенствованием себя, а, следовательно, и среды, в которой обитает человек. Этой великой миссии подчинено тело, которое, подвергаясь тренировке и закалке, преодолевая трудности бытия, крепнет и мужает. В библейской концепции совершенного человека забота о теле, определяемая наличием высших ценностей, не перерастет в похоть, не осквернит душу, не помешает борьбе за ее целомудренность и чистоту.
Выкованный в горниле дискуссий христианских апологетов образ идеального человека получил реальное воплощение и развитие в рыцарском этосе. Избирательное отношение Церкви к рыцарству, на наш взгляд, объясняется его христианскими корнями, восходя- щими к образу архангела Михаила [2], прославившегося борьбой со злом и победой над сатаной. Но не только. Несомненно, важнейшую роль в формировании рыцарской идеологии и этики сыграло античное представление о героизме, воинской доблести, а также о добродетелях, воспринятых в рыцарской среде в согласии с традицией, идущей от Сократа и Платона. Логично рассматривать феномен рыцарства как синкретическое единство античных kalos kagatos и христианских представлений об идеальном человеке.
Рыцарский идеал вобрал представления о святости, героизме веры, благочестии. В среде средневекового воинского сословия культивировалось гуманное отношение к противнику, уважение к репрезентантам из других рыцарских орденов. К примеру, помощь больным и паломникам становится главнейшей задачей ордена госпитальеров [4].
-
Н. А. Бердяев подчеркнул вклад аскетики в формирование рыцарского этоса. Для того, чтобы достойно выполнить поставленную цель, «хотя бы спортивную», необходима концентрация внутренних сил, систематические тренировки, беспрестанные упражнения в аскетике и каждодневные максимальные усилия для преодоления своих слабостей и недостатков [1]. Это люди избранные, аристократы, «кто живет жизнью напряженной и неустанно упражняется в этом» [9, с. 58].
Квинтэссенцией благородного воинского сословия, по мнению Й. Хейзинги, является игра, в которой возвышенный идеальный мир рыцарства противостоит обыденности и при-земленности. Поклонение высшим духовным ценностям, аристократический перфекционизм, одухотворенность, воспитанность, причастность искусству, бескорыстное поклонение прекрасной Даме, образ которой сложился на основе культа Девы Марии, сближают образ рыцаря с античным идеалом калокагатии, воспринятого сквозь призму христианского мышления. В возвышенном благородстве, пусть гипертрофированном и несбыточном, Й. Хейзинга видит силу рыцарства, неистовую и страстную Душу Средневековья. Иде- альный образ рыцаря-христианина, верного защитника Церкви, становится примером для подражания на многие столетия [15].
Рыцарские турниры не были чисто спортивными состязаниями, на которых демонстрировались лишь превосходные физические качества рыцарей, искусство верховой езды, виртуозное владение оружием. Прежде всего, рыцарский турнир – это игровое событие, где происходила манифестация христианских ценностей и закрепление на их основе идеальных представлений о человеке, адекватных традициям рыцарского сословия. Таким образом, рыцарское представление об идеале было создано на основе синтеза языческих и христианских антропологических идей. Ядром этого синтеза становится архетип онтологической вертикали, наполняющий данный образ трансцендентным смыслом, пробуждающий благородное стремление к совершенствованию как основополагающему свойству человеческой сущности:
«Я рвусь в простор иного бытия,
И до земли уж не касаюсь я» [3].
В рамках данных концептуальных установок спорт становится величайшей ценностью, ибо обладание крепким здоровым телом дает больше шансов для прорыва к небесным высям.
В трансформированном виде эти идеи были восприняты культурой джентльменства. При отождествлении понятий спортсмен и джентльмен, необходимо настоятельно подчеркнуть, что здесь имеется в виду именно аристократический любительский спорт, свободный и благородный, в котором достижение рекордов не является самоцелью. Честная бескорыстная спортивная игра выражала стремление приверженцев джентльменства к подлинности бытия, основанного на самопознании и самосовершенствовании. Для это-са джентльменства характерно повышенное внимание к здоровью и красоте тела. Ведущим мотивом в культивировании здорового развитого тела было побуждение к облагораживанию и эстетизации низменных сторон жизни, к достижению гармоничного единства тела и духа. Пафос творчества, присущий элитному спорту джентльменов, преобладал над утилитарной и биологической составляющей. Спорт рассматривался как способ манифестации благородства человеческой природы, ее «вертикальности», открывающей бескрайние горизонты для творческого преображения человека.
Вертикальное измерение спорта воспевал П. Кубертен в «Оде спорту». Он мечтал о справедливом, неподкупном, высоконравственном, благородном спорте, дающем человеку счастье. Духовная высота спорта, предложенная в кубертеновском проекте возрождения олимпийских игр, так и не была взята современными атлетами. Да этого и не могло бы произойти в мире, в котором сакраментальные основы бытия замещает технологическая рациональность и меркантильные отношения между людьми. Спорт, лишенный трансцендентного начала, становится массовым увлечением, прибыльным делом и вырождается в квазирелигию с присущими для нее формальными признаками: идеологией, организацией, культом, символикой, идеей избранности, закрепленной соответствующей мифологией. «Человеческое, слишком человеческое» (Ф. Ницше) содержание вытесняется культом тела, трансформируя спорт в пошлое игрище. Торжество юношеской телесности в спорте [9], пренебрежение к культу духа разрушают и спорт, и представление об идеальном человеке, отражая современный антропологический кризис. Лишенный ценностной вертикали, человек в спорте теряет возможность взглянуть выше земных условий его телесного существования. Обрушение вертикальной упорядоченности мира, включающей верхние и нижние слои бытия, закрывает чувствование его связи с абсолютом, тогда как именно духовная сущность человека обеспечивает его развитие и реализацию во всех измерениях.
Итак, наше исследование показало, что процесс формирования спорта как социокультурного института тесно связан с поисками идеального образа человека. Истоки этой деятельности следует видеть в игре вкупе с мифологическим, религиозным, ритуальным творчеством. В игровой деятельности человек реализовывал экзистенциальные потребности, конструировал представления об идеальном, утверждал себя человеком. С наибольшей полнотой образ идеального атлета в его тесной связи с религией, ритуальной деятельностью, был отрефлексирован в эпоху античности и выражен через понятие калокагатия. Калокагатийная наполненность этого образа была подхвачена и развита в духе христианской идеологии рыцарским этосом. Стержнем синтеза древнегреческих языческих и христианских представлений об идеальном человеке, дающим ему жизнестойкость и наполняющим его высшим смыслом, является архетип онтологической вертикали. С позиций данных концептуальных выкладок спорт трактуется как средство или способ, предоставляющий возможность человеку совершить прорыв в трансцендентность.
В процессе культурной рецепции в эталонном образе джентльмена были запечатлены ценностные установки рыцарского этоса. Антропологический тип джентльмена формировался в эпоху кардинального поворота в религиозной, мировоззренческой сферах. Сосредоточившись на принципе антропоцентризма, человек абсолютизировал внутреннюю свободу, в пространстве которой все же архетип онтологической вертикали не был утрачен. Постепенно под влиянием протестантизма происходит дистанцирование человека от мира трансцендентного. Модернизм завершает процесс сближения Бога с человеческой душой. Не Бог, но человек явился источником смысла и образцом для самого себя. Итогом развития антропоцентризма в протестантском этосе становится возвышение и фетишизация роли личности. Такой взгляд с неизменной логикой привел к разделению спорта на любительский и профессиональный. Горизонтальный вектор существования, возымевший преобладание над вертикальным, направляет спорт по пути «дурной бесконечности», к гибельному финалу.
Мы отчетливо сознаем, что предпринятая нами попытка описания идеального образа спортсмена в контексте соотношения духовного и телесного не является полной и всеобъемлющей. Тем не менее она дает основание для выделения вертикального, метафизического измерения как его основополагающей черты. В современном спорте вертикальное измерение теряет приоритет перед горизонтальным, замыкая границы человеческого бытия на плотском существовании. С крушением трансцендентного смысла спорта нравственность свергается с пьедестала и освобождает путь к победе любой ценой. Пренебрежение моралью открывает шлюзы для буйства стихии агрессии, корысти, наживы, погружает спорт в гибельную пучину аморальной бездны.
Данный момент чрезвычайно актуализирует внимание к аксиологической тематике в спорте. Осмысление означенного аспекта, несомненно, придаст импульс к появлению новых идей по наиболее значимым вопросам в сфере физкультуры и спорта. Их обсуждение будет стимулировать дискуссии по созданию новой концепции физкультуры и спорта, необходимость в которой назрела давно. В новой концепции существенная роль должна будет отводиться гуманитарной составляющей в преподавании физкультурно-спортивных дисциплин, ибо только она поддержит и обеспечит фундаментальность получаемого образования.
Для нас представляется важным продолжить движение мысли о единстве духовного, интеллектуального и физического начал в сфере физкультуры и спорта. Работа в заданном направлении содержит мощный потенциал для его истинного возрождения, когда человек сможет через занятия спортом осознать полноту и всецелостность бытия, открывая тем самым пути к самопознанию и саморазвитию в профессиональной деятельности.