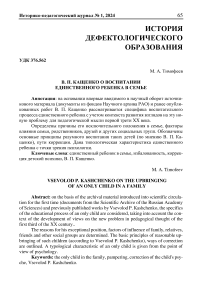В. П. Кащенко о воспитании единственного ребенка в семье
Автор: Тимофеев М.А.
Журнал: Историко-педагогический журнал @history-education
Рубрика: История дефектологического образования
Статья в выпуске: 1, 2024 года.
Бесплатный доступ
На основании впервые вводимого в научный оборот источникового материала (документы из фондов Научного архива РАО) и ранее опубликованных работ В. П. Кащенко рассматривается специфика воспитательного процесса единственного ребенка с учетом контекста развития взглядов на эту новую проблему для педагогической мысли первой трети XX века. Определены причины его исключительного положения в семье, факторы влияния семьи, родственников, друзей и других социальных групп. Обозначены основные принципы разумного воспитания таких детей (по мнению В. П. Кащенко), пути коррекции. Дана типологическая характеристика единственного ребенка с точки зрения психологии.
Единственный ребенок в семье, избалованность, коррекция детской психики, в. п. кащенко
Короткий адрес: https://sciup.org/140304224
IDR: 140304224 | УДК: 376.562
Текст научной статьи В. П. Кащенко о воспитании единственного ребенка в семье
Введение. Проблема воспитания единственного ребенка в семье не теряет своей актуальности и по сей день. В начале ХХ веке в связи с резкими социальными изменениями (уменьшение количества детей в семье) эта тема была новой, привлекая внимание многих психологов и педагогов. Важность вопроса понимал и Всеволод Петрович Кащенко, неоднократно сталкивавшийся с этой категорией в своей педагогической практике обучения и воспитания «особых» детей в «Санатории-школе». В его педагогической системе единственные дети в семье составляли своего рода особую группу. Описывая общие черты, свойственные всем единственным детям, и выделяя ошибки воспитания, обусловленные целым рядом внешних факторов субъективного характера, он рассматривал их в качестве причины «нервности» и «скороспелости» в детском возрасте.
Материалы и методы. Цель исследования – реконструкция взглядов В. П. Кащенко на ошибки воспитания единственного ребенка в семье, их последствия и методы коррекции на фоне подходов к этому вопросу, существовавших в современной ему педагогической теории и практике. В качестве задач были выделены: источниковедческая – выявление и ввод в научный оборот архивного документального материала по данной проблематике; аналитическая – воссоздание, на документальной основе, в хронологической последовательности эволюции теории и практики воспитания единственного ребенка в семье, реализованного
В. П. Кащенко на базе созданного им образовательного учреждения.
Источниками исследования выступают недавно опубликованные речи В. П. Кащенко периода 1908– 1935 гг. из фондов Научного архива Российской академии образования, научные статьи, выходившие в сборниках материалов по проблемам детской дефективности, монографические труды, принадлежащие В. П. Кащенко, а также работы Е. А. Аркина, Е. К. Кричевской, А. Адлера и О. Нетера.
В качестве методологической основы работы использованы историко-критические подходы, а также частные специальные методы – конкретно-исторический, историкосравнительный, содержательный анализ архивных текстовых материалов и документов личного характера.
Результаты исследования. К проблематике воспитания единственного ребенка Всеволод Петрович Кащенко целенаправленно обратился, скорее всего, на рубеже 20–30х годов прошлого столетия. На наш взгляд, это было связано с социально-исторической новизной и, как следствие, научно-педагогической актуальностью этой темы – большое количество семей с единственным ребенком немецкий педиатр Ойген Нетер назвал «частым явлением новейшего времени» [Нетер, 1927, с. 5]. В России и в Европе внимание к этому вопросу стало формироваться в 10-е годы XX века, а в конце 20-х годов в Советском Союзе выходит целый ряд книг и рекомендаций, так или иначе связанных с воспитанием единственного ребенка.
С этим массивом литературы В. П. Кащенко был явно знаком – в пользу этого говорят пометки на его рукописях, датируемых 1928 годом. Однако свои взгляды на проблему он концентрировано сформулировал позднее, в 1932–1935 годах, когда выступал с публичными лекциями «Ошибки воспитания» и «Единственный ребенок и нервные дети».
Оговоримся сразу: слово «единственный» в концепции В. П. Кащенко и педагогов-современников и все выводы, которые они делали, никоим образом нельзя автоматически переносить на все семьи, где рос один ребенок, и тем более – на общество XXI века. Хотя, безусловно, те наблюдения, анализ и выводы, которые были сделаны сто лет назад, во многом справедливы и «работают» и сегодня. Говоря о «единственном ребенке», авторы начала XX века и В. П. Кащенко, конечно же, имеют в виду единственного избалованного ребенка, который сформировался таковым а) в результате изменения социальный ролей членов семьи и б) неправильных воспитательно-педагогических подходов со стороны родителей (взрослых), что было бы невозможно или могло быть, но с гораздо меньшей вероятностью, в прежнюю эпоху в связи с традиционно большим количеством детей в семье. Именно поэтому может показаться, что Кащенко и современники говорят об обязательной связи воспитания единственного ребенка и его будущей нервности. Но это, повторимся, не так: речь идет исключительно о неправильном воспитании, о деформированной атмосфере в семье, которая и порождает ребенка-эгоиста, ребенка-диктатора, человека с подвижной психикой и т. д. и т. п. Само наличие в семье единственного ребенка отнюдь не является обязательным условием того, что он станет именно тем, о чем речь пойдет ниже.
При анализе наследия ученого и педагога по данной теме становится очевидным, что, с одной стороны, В. П. Кащенко шел в русле основной идеологии исследований, проводимых другими специалистами на основе, как правило, личного опыта и наблюдений, с другой – в его взглядах на воспитание единственного ребенка были свои оригинальные составляющие, связанные с его общей научно-педагогической концепцией. Но прежде чем перейти к разбору его трудов, целесообразно дать общее представление о взглядах его современников на проблему единственного ребенка, тем более что труды всех перечисленных далее авторов, кроме А. Адлера, он упоминает в своих лекциях.
В Европе вопросы, связанные с изучением социальных и биологических составляющих воспитания единственного ребенка – психических процессов, специфики семейного окружения, в том числе родительских ошибок – начали активно разрабатываться педагогами, психологами и врачами Германии и Австрии. Труды Эрнста Кречмера (Заблуждение чувств, 1918), Карла Фридъюнга (Патология единственного ребенка, 1919) и, конечно же, популярнейшая книга детского врача, одного из основателей и пре- подавателей семинара Фрёбеля, Ойгена Нетера «Единственный ребенок и его воспитание» (1914) – лишь часть научно-педагогического наследия того времени, посвященного этой проблеме. В середине-второй половине 20-х гг. интерес к ней не ослабевает, тем более что, как правило, ошибки в воспитании в т. ч. единственного ребенка рассматриваются как факторы, влияющие на его нервность в более старшем возрасте. И педагоги, и врачи, и ученые изучают их «по умолчанию», зачастую не вводя в свои исследования слово «единственный».
В 1927 году в Лейпциге выходит в свет труд австрийского психолога и психиатра Альфреда Адлера «Понять природу человека». В нем единственному ребенку посвящен отдельный параграф, в котором автор крупными мазками рисует его психологический портрет. Единственный ребенок является «жертвой» сосредоточенного на нем усиленного внимания заботливых родителей. Это, с одной стороны, влечет за собой зависимость его характера, неспособность бороться с трудностями, неприспособленность к жизни, искаженность картины мира и видения себя в нем, известный паразитизм как основной формат существования – ведь о его нуждах все время заботится кто-то еще. С другой стороны, отмечает Адлер, гипертрофированное внимание и забота родителей приводят к тому, что ребенок становится не только избалованным, но превращается в манипулятора взрослыми (родителями), поскольку истолковывает их заботу и предостережения как возможность оказывать на них дополнительное давление [Адлер, 2021, с.167–168].
Сокращенный русский перевод упоминавшейся книги О. Нетера был опубликован в 1927 году. Единственного ребенка, указывает автор, характеризуют две группы особенностей: те, которые являются результатом неправильного воспитания, и те, которые обусловлены отсутствием определенных воспитательных факторов. Единственного ребенка слишком много воспитывают [Нетер, 1927, с. 8]. Гипертрофированная любовь делает его беспомощным, несамостоятельным, лишенным возможности развивать в себе качества, которые приобретаются в коллективных играх. Вместе с тем, у единственных детей, как правило, наблюдается преждевременное интеллектуальное развитие, скороспелость. Однако эта «взрослость» портит нервную систему, такие дети лишены способности адекватно оценивать действия своих сверстников [там же, с.14–16]. Нетер также указывает на высокую опасность одностороннего развития ума единственного ребенка и ущерб для его нервной системы. Усиленное психическое напряжение, перегруженность сведениями и впечатлениями, иные факторы способствуют, по мнению автора, развитию психогенных расстройств. Иногда ситуацию усугубляет и нервозность родителей [там же, с. 22–23].
Нарушение у таких детей режима питания, физического воспитания, мнительность в вопросах здоровья, деформация характера ребенка, становящегося игрушкой в руках родителей – все эти черты также относятся к первой группе.
Во вторую группу О. Нетер относит эгоизм, отсутствие чувства коллективности у единственного ребенка. У него более холодный внутренний мир, он нечувствителен к бедам других – и в то же время обладает пониженной психической сопротивляемостью, застенчив и робок. Одиночество приводит к развитию фантазий, и иногда такой ребенок создает себе целый мир, который находится в противоречии с действительностью. Единственный ребенок – печальное явление современности, заключает автор [Нетер, 1927, с. 48].
Решение проблемы лежит, по мнению О. Нетера, в принципиальном изменении позиции родителей. Воспитание должно носить направляющий характер, надо отказаться от желания постоянно влиять на ребенка, он должен развиваться согласно своим возрастным особенностям. Обучение должно быть дозировано, а максимально положительных результатов можно добиться за счет помещения ребенка в коллектив (детский сад, школа) [там же, с. 52–60].
В Советском Союзе конца 20-х годов тему единственного ребенка затрагивала в серии брошюр, выпущенных Государственным научным институтом охраны материнства и младенчества Наркомздрава СССР, психолог и педагог, специалист в области раннего детства Елена Константиновна Кричевская. Будучи сторонником бихевиористского подхода, методологически объединенного с находившейся в тот момент на пике педологией, Е. К. Кричевская основывала свои взгляды на результатах многолетнего наблюдения за
«преддошкольниками» в специализированных образовательных и консультационных структурах Москвы и Харькова [Кричевская, 1927, с. 7; Кричевская, 1929, Советы…].
Она также критически относится к практике чрезмерной любви и опеки единственного ребенка, негативно отражающейся на его психологическом и социальном самоощущении – ведь одна из важнейших педагогических задач: воспитать спокойных, нервно устойчивых детей [Кричевская, 1927, с. 5].
Излишняя опека и расслабляюще ласковое отношение родителей к ребенку становится, по ее наблюдениям, одной из причин детских капризов [Кричевская, 1927, с. 20]. И именно эти капризы, т. е. когда дети «криком и слезами требуют того, что не должно быть выполнено», категорически нельзя удовлетворять [там же, с. 27]. Повышенное внимание к ребенку приводит к тому, что он становится деспотом в семье, упрямым, назойливым, издерганным, эгоистом и т. п. [Кричевская, 1929, Избалованные…, с. 8–10]. При этом, отмечает педагог, возникает еще одна проблема: балованный ребенок, окруженный общим вниманием, очень часто вырастает заброшенным в силу отсутствия в его жизни определенной линии поведения в отношениях с родителями и окружающим миром. Он не знает ни своих прав, ни обязанностей, у него отсутствует правильно развитое понятие «нужно».
-
Е. К. Кричевская особо подчеркивала важность выстраивания правильных отношений родителей и ребенка в деле воспитания и формиро-
вания игральных и трудовых движений. «…в условиях семейного воспитания развитие игральных и трудовых навыков ставится в огромном большинстве случаев совершенно неправильно. [Ребенка] слишком много забавляют и развлекают, не воспитывая в нем привычки играть без вмешательства взрослых», – отмечает она. Взрослые относятся к ребенку как к беспомощному существу; в результате неподготовленные родители совершенно не решают педагогических задач по развитию самостоятельности и сосредоточенности ребенка [Кричевская, 1929, Советы…, с. 23–24]. Постоянное держание ребенка на руках лишь вредит ему; многие родители не понимают, что обучать ребенка таким базовым самостоятельным навыкам, как лазание, умение есть, одеваться/разде-ваться нужно в строго определенном возрасте [там же, с. 25–27]. Если до 3–4 лет взрослые делают за ребенка то, что должен уметь он сам, просто потому, что они сделают это быстрее, то тем самым они формируют в нем беспомощность и лень, утверждает педагог [Кричевская, 1929, Избалованные…, с. 4].
Очень часто эти дети живут «отраженной» жизнью, подражая взрослым; возникает несоответствие между тем, что может и должен дать ребенок согласно возрасту, и тем, что прививают ему взрослые.
Вывод, который делает Е. К. Кричевская, вполне конкретен: единственные дети – самые трудные в воспитательном отношении в силу крайней неустойчивости своего поведения. «Наиболее безалаберно и плохо воспитываются обычно те дети, которые являются единственными в семье», заключает она [там же, с.14]. По мере взросления такого ребенка родительская любовь может уменьшаться или, наоборот, принимать уродливые формы, коверкающие его жизнь. Выход – в организации нормального, ровного, спокойного воспитания, при котором родители ставят перед собой цель, обладают умением воспитывать и сознательны во всех своих поступках [там же, с.17–18,20].
В свою очередь психолог, педагог, коллега и друг В. П. Кащенко с университетских времен Ефим Аронович Аркин отмечал, что причина плохого поведения (помимо наследственности) единственного/люби-мого ребенка всегда кроется в атмосфере в семье и той линии воспитания, которая выбрана в отношении него. Неразумная любовь приводит к тому, что ребенок становится божком и господином. Заласканный единственный ребенок становится неприспособленным к труду, потому что с детства привык к чужой помощи и, столкнувшись с препятствиями, теряется. Чтобы решить эту проблему, родители должны обладать определенными педагогическими знаниями. Ведь ребенок – не взрослый, его надо понимать, уважать и любить [Аркин, 1933, с. 13,29]. Главное – ребенка надо погрузить в свойственную ему среду сверстников, приобщить к труду, нормализовать режим питания, изолировать от темы семейных отношений и т. п. [там же, с. 37–38].
Этот исторический экскурс призван показать характер и специ- фику изученности проблемы единственного ребенка, основные акценты, которые нашли свое отражение и в трактовке проблемы и путей ее решения Всеволодом Петровичем Кащенко. Безусловно, в его работах очевидно влияние О. Нетера и Е. К. Кричевской, однако, по нашему мнению, это обусловлено следующей объективной причиной, которая не позволяет говорить о простом заимствовании (тот же Нетер прибегает к обильному цитированию сочинений других педагогов, философов и психологов – такие фрагменты занимают иногда до полустраницы). Все труды Всеволода Петровича, в которых подробно затрагивается эта тема, представляют собой не научные статьи или монографии, а являются публичными лекциями, когда перед выступающим стоит, главным образом, просветительская задача аудитории, неподготовленной не только в плане дефектологии, но даже в общих вопросах воспитания. Об этом говорит и сам Кащенко: «о единственном ребенке, о нервном ребенке и вообще о трудном ребенке […] широкая публика еще меньше знает, еще меньше имеет о них представление», чем об общепедагогических принципах правильного воспитания. Ему было важно представить в рамках ограниченного времени популярно, простыми словами изложенную систематизированную картину проблемы и путей ее решения. В этом – лаконичной системности ознакомительного описания вопросов, связанных с воспитанием единственного ребенка, и ответов на них – главная заслуга В. П. Кащенко как популяризатора педагогики и научных подходов к воспитанию.
Непосредственно проблеме посвящена первая часть публичной лекции «Единственный ребенок и нервные дети», прочитанной В. П. Кащенко 1 марта 1935 года в Клубе МГУ. Здесь она раскрыта наиболее полно. Он также затрагивал эту тему ранее – в радиолекции о нервных детях, в «Педагогической коррекции», в лекции «Ошибки воспитания» (конец 1932 г.).
Единственных детей В. П. Кащенко относил к детям с нормальным умственным развитием, но с недостатками характера, то есть к детям «с нервнопатической и психопатической конституцией» [Всеволод Петрович Кащенко, 2023, с. 501]. В вопросе же глобальной причины негативных последствий для личности единственного ребенка и его окружения он был категоричен. Риторика вводной части лекции, отражая, видимо, реалии современности, сильно социологизирована и политизирована. Единственные дети, наряду с другими трудными детьми, «являются бичом семьи и школы», а сама проблема трудного ребенка «приобретает серьезный политический характер» [там же, с. 585]. И основной источник возникновения трудностей – социальная среда. Именно социально-бытовые причины, ошибки в воспитании, способствуют проблемам в т. ч. и единственных детей. «Единственные дети являются в своей массе социально и педагогически запущенными, – говорит он. – В этом виновными оказываются среда и неправильная постановка воспитания, в частности отсутствие детского коллектива» [там же, с. 590–591].
Неправильно воспитываемому единственному ребенку, по мнению В. П. Кащенко, свойственны три основные черты.
Во-первых, с младенческого возраста он является главным центром интересов для окружающих.
Во-вторых, окружающие его внимание и забота приобретают гипертрофированный характер и направлены на ограждение от любых неприятностей (болезней, псевдо-голода, контактов со сверстниками, жизненных ситуаций и пр.).
В-третьих, эта нерациональная любовь и опека трактуются родителями как общий принцип воспитания («все так делали»), приводя впоследствии к крайне негативным результатам для самого ребенка.
Кащенко определяет и набор характерных ошибок, которые совершают многие родители при воспитании единственного ребенка. Они носят и организационный, и, если можно так сказать, психологический характер.
На первом месте стоит нерационально организованное питание. Ребенка «начинают кормить много и часто до тех пор, пока он вовсе не потеряет аппетита». Он отвыкает от полезной еды – и начинает искать пищевое раздражение, становится разборчивым, прихотливым. Его начинают безуспешно лечить, прием пищи превращается в драму, где похвалы чередуются с угрозами [Всеволод Петрович Кащенко, 2023, с. 586].
Далее – излишнее количество игрушек. Каждая новая все меньше привлекает к себе внимания, и ребенок, как и в питании, постоянно ищет какой-то новизны. Однако большое количество игрушек не решает проблемы, лишь лишает ребенка человеческого общения со сверстниками [там же, с. 587].
Еще одна ошибка – ограничение контактов со сверстниками, фактическая изоляция от детского коллектива, причем не только из-за боязни болезней, но и отношений, в нем возникающих. «Ребенок не должен видеть, слышать, приходить в общение с тем, что лежит вне пределов материнского надзора. Ребенок не должен подвергаться, по мнению родителей, никаким обидам, никаким естественным схваткам и борьбе с детьми» [там же]. Другой аспект, продолжение этой тенденции – организация воспитания или обучения либо на дому, либо в частном учебном заведение в небольших классах.
Отсюда вытекает и излишняя суета вокруг ребенка со стороны родителей, и гипертрофированная оценка значимости любого действия ребенка: «малейший поступок единственного ребенка приобретает в глазах окружающих оттенок необычайной важности и значительности, становятся чем-то замечательным и заслуживающим особого внимания». При этом наличие большого числа взрослых родственников вносит явный дисбаланс в процесс воспитания – каждый обращается к ребенку и пытается воздействовать на него со своими целями и своим видением и пониманием [там же, с. 587–588].
Все вышеперечисленное связано, по сути, с главным ошибочным принципом – баловством, курсом на удовлетворение всех желаний ребенка, «вызываемых слепой неразумной любовью, когда все в доме, часто сами того не сознавая, живут для одного ребенка, делают из него кумира, божка, воля которого закон» [там же, с. 573]. Таким образом, в семье нарушается, точнее, деформируется тип привязанности.
Неизбежный спутник такого подхода к воспитанию – участие ребенка в жизни взрослых, его искусственное «овзросление». Он становится свидетелем разговоров взрослых, использует взрослые слова, ведет себя не соответственно возрасту. «Его речь и мысли приобретают совершенно несвойственный ребенку отпечаток», заключает В. П. Кащенко [там же, с. 588].
Попробуем сжато сформулировать последствия , к которым, по мнению ученого и педагога, приводит вышеописанная модель воспитания единственного ребенка. Потому что «всякая изнеженность вредна ребенку, и за всякое нарушение естественных границ ему приходится в будущем расплачиваться», говорит он [там же, с. 586].
Очень часто избалованный ребенок становится деспотом в семье, причем в отношении и родителей, и бабушек с дедушками, угнетающим их и вступающим с ними в конфликты не только в словесной, но зачастую и в физической форме [там же, с. 557, 573]. Он не умеет и не любит трудиться, поскольку главная цель – получение желаемого.
Единственный ребенок труслив, изнежен, неспособен к самостоятельности; у него извращен инстинкт самозащиты и самообороны.
При этом он нескромен и самонадеян. Он «не умеет взвешивать свои поступки, не знает меры, не приучен сдерживать свои чувства и аффекты. Он не приучен владеть собой, владеть своими эмоциями» [там же, с. 588]. Малоопытные психоневрологи иногда могут даже поставить такому ребенку ошибочный диагноз – шизофрения и истерия [там же, с. 591].
Умственное развитие ребенка сильно опережает развитие физическое, что влечет за собой появление и закрепление «нервной слабости», отмечает В. П. Кащенко. Результат – общая психическая скороспелость такого ребенка [там же, с. 589], и это имеет далеко идущие негативные последствия для него в будущем. «Скороспелое созревание ведет к кажущейся одаренности, к пустоцвету», подчеркивает В. П. Кащенко [там же, с. 591].
Как правило, такой ребенок эгоистичен, горд собой, тщеславен и притязателен. Это приводит к тому, что во взрослом возрасте он может отвернуться от родителей и не видеться с ними. Правда, бывают и прямо противоположные случаи, когда даже будучи взрослым он находится в некоем подчиненном положении по отношению к родителям [там же].
Во многих случаях это недобрый человек, лишенный чувства товарищества. Нередко он специально нервирует и беспокоит окружающих, в том числе и за пределами своей семьи.
Каковы пути решения перечисленных проблем и что нужно изменить в системе воспитания, чтобы единственный ребенок вырос здоровым, физически и психически нормальным? В. П. Кащенко так же, как и другие педагоги, ставит во главу угла правильной системы воспитания такого ребенка принцип разумности, здравого и спокойного подхода. Вместе с тем он особо подчеркивает необходимость индивидуального рассмотрения каждого отдельного случая. Только так можно будет определить «индивидуально-педагогическое влияние и психогигиенический режим» для ребенка [Кащенко, 2010, с. 102]. И начинать делать это надо как можно раньше.
Самое главное и эффективное в такой ситуации, отмечает В. П. Кащенко, дать ребенку то, чего ему явно недостает: детский коллектив, сверстников, «чтобы он имел возможность играть с детьми такого же возраста, гулять, заниматься и т. д.» [Всеволод Петрович Кащенко, 2023, с. 590]. Товарищи, посещение детского сада и обучение в школе будут способствовать его правильному развитию. Родители «должны помнить, что только в общении со сверстниками ребенок остается ребенком» [там же, с. 591].
Родителям следует отказаться от суеты вокруг него, от всех тех искусственных приемов, которые создают у ребенка скороспелость. «Они не должны превращать ребенка в игрушку, по возможности меньше его «воспитывать». Они не должны изнеживать его характера», говорит В. П. Кащенко. Тем более не стоит обращать внимания на капризы, связанные с питанием или игрушками.
Все участники процесса должны помнить, что единственные дети просто нуждаются в создании вокруг них здоровой физической и психической среды, которая постепенно вела бы их характер к выравниванию, исправлению, а нервную систему – к закаливанию и успокоению [Кащенко, 2010, с. 101; Всеволод Петрович Кащенко, 2023, с. 591]. Иногда, отмечает ученый и педагог, бывают, конечно, и сложные случаи, когда «неизбежна временная изоляция ребенка из семьи к родственникам, иногда даже к чужим людям, а в очень запущенных случаях – в нервный санаторий» [там же]. Но, как правило, изменение принципов воспитания и приведение нервной системы единственного ребенка сначала к успокоению, а потом и к постепенному, естественному развитию и укреплению достаточно для того, чтобы исправить его характер [Всеволод Петрович Кащенко, 2023, с. 591].
Обсуждение результатов. Исследование в фондах Научного архива Российской академии образования архивных документов, связанных с В. П. Кащенко, его деятельностью во второй половине 20-х-30-е гг. XX века в области популяризации науки и педагогического просвещения, позволило выявить ряд оригинальных документальных материалов, раскрывающих взгляды ученого и педагога на проблему единственного ребенка. Осуществленная в конце 2023 года научная публикация этих материалов способствует не только реконструкции важного эпизода истории отечественной науки и педагогики, но и предоставляет практический материал для организации работ в этом направлении сегодня.
Заключение. На основании впервые вводимых в оборот, а также редко используемых материалов сочинений В. П. Кащенко, советских и европейских педагогов первой трети XX в., обращавшихся к проблемам воспитания единственного ребенка, можно утверждать, что в СССР к началу 30-х гг. практиковались передовые для данного времени методики анализа трудностей и ошибок в воспитании этой категории детей и путей их исправления. В. П. Кащенко считал, что основные причины ошибок лежат в социально-бытовом окружении детей, неправильных установках и принципах воспитания, которых придерживаются родители, что приводит к нарушениям в физическом, личностном и социальнопсихологическом становлении ребенка. Выход ученый видел в отказе от неразумных отношений к ребенку, кардинальном усилении роли коллектива, соответствующей возрасту ребенка социализацией. Это, отмечал он, поможет избежать деформации характера, скороспелости и нервности, которые являются неизбежными следствиями неправильно поставленного воспитательного процесса в семье.
Список литературы В. П. Кащенко о воспитании единственного ребенка в семье
- Адлер, А. Понять природу человека / Альфред Адлер; [перевод с немецкого Е. Цыпина]. – Москва: Издательство АСТ, 2021. – 320 с. – Текст: непосредственный.
- Аркин, Е. А. О некоторых вопросах воспитания детей [Текст]: (Переписка с родителями). – Москва: Гос. учеб.-пед. изд-во, 1933. – Вып.1. – Текст: непосредственный.
- Кащенко, В. П. Информация о Медико-Педагогической Станции Наркомпроса // Всеволод Петрович Кащенко: жизнь и деятельность в документах и материалах: сборник документов / отв. сост. М. А. Тимофеев. – Москва: ИНФРА-М, 2023. – С. 501–502. – Текст: непосредственный.
- Кащенко, В. П. Педагогическая коррекция: Исправление недостатков характера у детей и подростков: учеб. пособие для студ. сред. И высш. учеб. заведений. – 6-е изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2010. – 304 с. – Текст: непосредственный.
- Кащенко, В. П. Радиолекция о нервных детях (материалы) // Всеволод Петрович Кащенко: жизнь и деятельность в документах и материалах: сборник документов / отв. сост. М. А. Тимофеев. – Москва: ИНФРА- М, 2023. — С. 555–559. – Текст: непосредственный.
- Кащенко, В. П. Сокращенное изложение для лекции «Ошибки воспитания» // Всеволод Петрович Кащенко: жизнь и деятельность в документах и материалах: сборник документов / отв. сост. М. А. Тимофеев. – Москва: ИНФРА-М, 2023. – С. 570–577. – Текст: непосредственный.
- Кащенко, В. П. Стенограмма лекции «Единственный ребенок и нервные дети» // Всеволод Петрович Кащенко: жизнь и деятельность в документах и материалах: сборник документов / отв. сост. М. А. Тимофеев. – Москва: ИНФРА-М, 2023. – С. 583–597. – Текст: непосредственный.
- Кричевская, Е. К. Избалованные, заласканные и заброшенные дети [Текст] / Е. К. Кричевская. – 3-е изд. – Москва: Гос. медиц. изд-во, 1929. – 32 с. – Текст: непосредственный.
- Кричевская, Е. К. Детские капризы и их предупреждение / Предисловие: проф. А. С. Дурново. – Москва: Охрана материнства и младенчества НКЗ, 1927. – 32 с. – Текст: непосредственный.
- Кричевская, Е. К. Советы матерям по воспитанию детей: Опыт педагогич. консультации / Елена Кричевская. – 2-е изд. – Москва: Гос. медиц. изд-во, 1929. – 32 с. – Текст: непосредственный.
- Нетер, Е. Единственный ребенок и его воспитание / Пер. под ред. д-ра А. О. Гершензона; Предисловие: А. Гершензон. – Москва: Охрана материнства и младенчества НКЗ, 1927. – 61 с. – Текст: непосредственный.