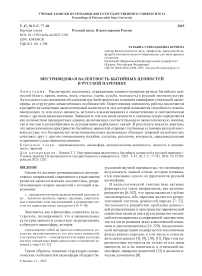Внутривидовая валентность бытийных ценностей в русской паремике
Автор: Бочина Т.Г.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Разноаспектный анализ паремиологических единиц языков народов России
Статья в выпуске: 5 т.47, 2025 года.
Бесплатный доступ
Рассмотрены пословицы, отражающие взаимоотношения разных бытийных ценностей (благо, время, жизнь, воля, счастье, удача, судьба, молодость) в русской лингвокультуре. Актуальность исследования обусловлена научной ценностью познания специфики этнической аксиосферы, ее структурно-семантических особенностей. Теоретическая значимость работы заключается в разработке концепции аксиологической валентности, под которой понимается способность лексем, именующих ту или иную ценность, вступать в выска зываниях в семантические и синтаксические связи с другими аксиолексемами. Значимость той или иной ценности в лингвокультуре определяется как количеством прецедентных единиц, включающих соответствующую аксиологическую лексему, так и числом и разнообразием ее ассоциативно-вербальных связей. В результате анализа доказано, что аксиологическое пространство бытийных ценностей отражает глубинные установки русской лингвокультуры, что большинство экзистенциональных аксиолексем обладают широкой валентностью, сочетаясь друг с другом отношениями подобия, сходства, р азличия, контраста, парадоксальными и причинно-следственными связями.
Лингвоаксиология, аксиосфера, аксиологическая валентность, ценность и антиценность, паремия
Короткий адрес: https://sciup.org/147250798
IDR: 147250798 | УДК: 811.161.1:398 | DOI: 10.15393/uchz.art.2025.1202
Текст научной статьи Внутривидовая валентность бытийных ценностей в русской паремике
Одним из активно развивающихся интегративных направлений современного языкознания является аксиологическая лингвистика, разрабатывающая теорию ценностей с позиций языкознания:
«…предметом изучения аксиологической лингвистики… являются ценности, нормы, традиции, закрепленные в значениях слов, высказываний, в содержании текстов и в характеристиках дискурсов» [15: 9–10].
Лингвисты, как и философы, социологи, культурологи, подчеркивают, что в национальных культурах ценности существует не разрозненно, а образуют аксиосферу, которая
«представляет собой не простую совокупность, соседство, рядоположенность тех или иных ценностей, а их целокупность – сложившуюся в истории культуры систему конкретных форм ценностного отношения человека к миру» [5: 52].
Таким образом, познание структурно-семантических особенностей аксиосферы обладает бе
зусловной научной значимостью, что мотивирует актуальность данной статьи, которая посвящается описанию одного из фрагментов русской аксиосферы.
В аксиологической лингвистике активно формируется такое направление, как аксиопа-ремиология [6: 102], что представляется глубоко закономерным, ибо паремии являются репрезентацией системы ценностей народа [7: 52]. Актуальность разработки проблемы ценностной репрезентации в пространстве паремической семантики видится как в русле развития тенденций постмодернизма в современной лингвистике, так и в части решения задач классической семантики и лингвосемиотики [14: 229]. Аксиологической интерпретации подвергаются пословичные фонды разных народов, в том числе в сопоставительном аспекте [4], [9], [10], [11]. При этом па-ремиологами изучаются не только те или иные ценности, но и их значимость в этнической ак-сиосфере, иерархия ценностей [12] и аксиологические доминанты [8].
Объектом данного исследования являются русские паремии о бытийных ценностях, его предмет составляют особенности ассоциативных связей разных ценностей друг с другом. Ранее в связи с изучением различных фрагментов русской аксиосферы было введено понятие аксиологической валентности, под которой понимается «способность лексем, именующих ту или иную ценность, вступать в высказываниях в семантические и синтаксические связи с другими аксио-лексемами» [2: 8]. Теоретическая значимость данной статьи связана с дальнейшей разработкой концепции аксиологической валентности. В качестве материала исследования избраны русские паремии, так как ценность, по признанию паре-миологов, является стержневым компонентом паремии, при этом аксиолексемы в пословицах, как правило, представлены не изолированно, а во взаимодействии с другими ценностями, ибо
«семиотическая специфика пословицы заключается в том, что она означает модель стереотипной ситуации, указывает не на отдельный элемент, а на фрагмент объективной действительности»1.
Цель исследования – определение валентности бытийных ценностей, репрезентирующей разнообразные взаимосвязи внутри тематического фрагмента аксиосферы. В качестве источника практического материала послужил «Большой словарь русских пословиц» В. М. Мо-киенко, Т. Г. Никитиной, Е. К. Николаевой2.
РЕЗУЛЬТАТЫ, ДИСКУССИЯ
Своеобразие этнических аксиосфер заключается, во-первых, в вариативности аксиологического набора, состоящего из инвариантных общечеловеческих ценностей, национально вариативных (прежде всего семантически и символически) и уникальных ценностей; во-вторых, в семантической и структурной специфике аксиологического пространства той или иной линг-вокультуры. Эти структурно-семантические особенности аксиосферы отражают этнически специфическую иерархию ценностей в языковой картине мира народа. О том, насколько значима та или ценность в лингвокультуре, можно судить как по количеству прецедентных феноменов, включающих соответствующую аксиологическую лексему, так и по числу взаимодействующих с ней других ценностей.
При систематизации валентностных связей изучаемой ценности можно выделить две группы: взаимодействие ценностей одного вида и соотнесенность ценностей разных видов (например, морально-нравственных и утилитарно-практических ценностей). Рассмотрим ассоциации разных бытийных ценностей друг с другом. Прежде всего следует отметить место бытийных ценностей в аксиосфере. Л. Б. Савенкова выделила в русском пословичном фонде девять видов ценностей, среди которых бытийные ценности занимают третье место после морально-нравственных и утилитарно-практических и встречаются в 4848 паремиях [13: 138–139]. Такая частотность пословичной рефлексии на бытийные ценности, по нашему мнению, говорит об их большой значимости в русской лингво-культуре. Исследователем на пословичном материале был также составлен рейтинг бытийных ценностей:
Благо – 865 (паремий), Время – 722, Жизнь – 668, Человек - 651, Воля - 594, Счастье, удача - 395, Судьба - 376, Молодость - 254, Обычай, традиция - 170, Своеобычие, индивидуальность - 119, Надежда - 34 [13: 138–139].
Как известно, лингвокогнитивным принципом пословицы является контраст, что хорошо согласуется с дихотомической сущностью ак-сиосферы, в которой ценностям, как правило, соответствуют антиценности. Среди пословиц о бытийных ценностях немало изречений с аксиологическими оппозициями:
жизнь - смерть : Живот богатство дает, а все смерть отберет; Лучше живот, нежели смерть ; воля - неволя : Воля хуже неволи; Воля пьет водицу, а неволя медок; счастье, удача - горе, беда, неудача : Было бы и счастье, да одолело ненастье (несчастье); Удача - брага, неудача - квас ; доля - недоля : Доля во времени живет, недоля в безвременье ; время - безвременье : Время красит, а безвременье чернит (старит, казнит, сушит) ; молодость - старость : В молодости ищут разгула, а в старости - притула; Молодость летает вольной пташкой, старость ползает черепашкой .
При этом спектр семантических отношений между аксиологическими биномами достаточно широк. Рассмотрим в качестве примера семантические отношения в витальной оппозиции. Совершенно естественно в пословичном фонде наличие контрастного противопоставления ценностей и антиценностей: Жизнь хватает, смерть отдает; Жизнь - загадка, смерть - разгадка и др. Однако взаимоотношение в аксиологическом биноме намного сложнее, чем контраст или сильное отрицание. Это и аксиологическая несовместимость: В мертвого жизни не вдохнешь; Либо жизнь, либо смерть; Не на живот рождаемся, а на смерть, и, наоборот, взаимопроникновение и диалектическая близость противоположностей: В жизни смертей много; От жизни до смерти один шаток; Промеж жизни и смерти и блоха не проскочит; Животы смерть кажет; Животом и смертию владеет Бог, покаянием владеет человек. Это и разнообразные причинно-следственные отношения, когда в од- них ситуациях ценность и антиценность взаи-моотталкиваются: Жизнь - отрада, помирать не надо; Жизнь - помирать не хочется, а в других, напротив, ценность переходит в свою противоположность или уподобляется ей: Яка жизнь, така и смерть; Жизнь не красна, так и смерть не страшна; Живот бедному смерти подобен; Жизнь на коленях позорнее смерти.
Бытийные ценности активно взаимодействуют друг с другом. Так, в паремиях Жизнь со -пряжена с
Радостью и Счастьем : Кого жизнь ласкает, тот и горя не знает; Волей : Хоть жизнь собачья, зато воля казачья; Временем : Жизнь есть небес мгновенный дар; Жизнь наша временна; Человеком : Жив человек живую и помышляет; И худой человек проживет свой век; Пока жив человек, голодною смертью помирать не станет; Человек всю жизнь учится; Человек живет век, а его дела - два и др.
Ценность Человек связана с такими бытийными ценностями, как
Важнейшая характеристика бытия - время -в народных изречениях сопрягается с экзистенциальными феноменами
Благо : Во благо время много друзей бывает, а в безвременье и свои оставляют; Жизнь (Смерть) : Что время, то новая жизнь; Придет время, все лягут в могилки; Счастье : Время счастье приносит; Во времена счастия не возносись, а больше Богу молись; Традиции, обычаи : У каждого времени свои обычаи; Надежда : Долгое время – короткая надежда.
Регулярный характер носят ассоциации жизнь / смерть - молодость / старость : Не бойся в жизни трудностей, бойся в жизни старости; Не молодостью живем, не старостью умираем и т. д.
Как видим, фрагмент аксиосферы Бытие имеет большую плотность и заполненность пространства, практически все аксиолексемы связаны с большинством других бытийных ценностей.
Однако значимость бытийной аксиосферы определяется не только значительным числом взаимосвязей образующих ее компонентов, но и тем, что данные вербально-ассоциативные связи в русском провербиальном пространстве отражают экзистенциальные особенности миропонимания. Такова, к примеру, традиционная пословичная рифма воля - доля , определяющая русскую интерпретацию свободы и счастья. Следует заметить, что в так называемых банальных рифмах народных изречений ярко проявляется единство звуковой и смысловой сторон, в них «образные и звуковые параллели слились в одну поэтическую фигуру» [3: 117]. Кроме двух бытийных ценностей в триаду Поле - Воля - Доля входит пространственный символ русского мира - бескрайнее, не имеющее границ широкое поле. Общепризнано, что окружающая среда, природа, детерминирует направленность практической деятельности народа и определяет специфику его модели мира, в том числе иерархию ценностей и особенности национального характера. В паремиях поле как ключевая единица русского космоса регулярно соотносится с национальноэндемическим пониманием свободы как вольной воли - ничем не ограниченным простором в действиях и поступках:
Воля в поле; В поле две воли: кому Бог поможет ; Дорога воля - гони врага с поля; Цвет в поле, человек в воле ; Не верь ветру в поле, а жене в воле; Своя воля – велик простор и др.
Народное понимание судьбы как воли Бога, наделяющего человека его долей, участью, отражено в символичной рифме воля - доля :
«От глагола делить... образовалось слово доля , означающее не только pars (отдел), но и судьбу (то, что выпало человеку на часть, на долю, что досталось ему в у-дел...)» [1: 187]: Такова доля, что Божья воля .
Символизм данных бытийных ценностей проявляется в разнообразии их семантических связей: от тождества и подобия до различия и противоположности. С одной стороны, аксиолексемы воля -доля определяют или усиливают друг друга: Ваша воля – наша доля; Своя воля – своя и доля; Поется там, где воля, холя и доля. Своеобразной квинтэссенцией понимания счастья как вольной воли, соединяющей простор действий с простором неограниченного пространства русского поля, является паремия Своя волюшка раздолюшка. С другой стороны, пословицы указывают на жизненные ситуации, когда избыток воли является причиной своевольства и ухудшения судьбы: Своя воля не вводит в добро; Боле воли – хуже доля; Дал себе волю - спустишь и отцову долю; Дашь себе волю – будешь в неволе; Воля и добру жену портит. Кроме того, члены символического бинома могут противопоставляться и взаимно отталкиваться: Во всем воля, а ни в чём доли; Доля есть, да воли нет; Не в воле счастье, а в доле.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, о высокой значимости в русской лингвокультуре фрагмента аксиосферы Бытие свидетельствует, во-первых, большое количество паремий о бытийных ценностях (около 5 тысяч), занимающих третье место в рейтинге частотности ценностей в пословичном фонде; во-вторых, обилие разнообразных ассоциативно-вербальных связей бытийных ценностей друг с другом. Большинство бытийных аксиолексем обладают широкой валентностью, сочетая внутривидовые ценности отношениями подобия, сходства, различия, контраста, причины и следствия. Аксиологическое пространство бытийных ценностей с многочисленными их взаимосвязями отражает глубинные установки русской лингво-культуры. Так, аксиологическая триада Поле – Воля – Доля имеет экзистенциальный характер, ибо в ней соединяются ключевые концепты русской культуры, репрезентирующие свое пространство, этноспецифическое представление о свободе и понимание счастья.
Перспективы исследования аксиологической валентности русской аксиосферы видятся в познании соотношения бытийных ценностей с ценностями других видов.