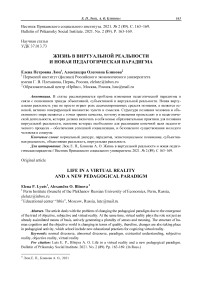Жизнь в виртуальной реальности и новая педагогическая парадигма
Автор: Люц Е. П., Блинова А. О.
Журнал: Вестник Прикамского социального института.
Рубрика: Наука и образование
Статья в выпуске: 2 (89), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема изменения педагогической парадигмы в связи с появлением триады объективной, субъективной и виртуальной реальности. Новая виртуальная реальность уже не просто играет роль ассимилированных средств познания, а является основой, активно генерирующей множество чувств и смыслов. Структура познания человека и объективного мира меняется с точки зрения качества, поэтому изменения происходят и в педагогической деятельности, которая должна включать в себя новые образовательные практики для познания виртуальной реальности, освоение которых необходимо для реализации конечной цели педагогического процесса – обеспечения успешной социализации, и безопасного существования молодого человека в социуме.
Нормальный дискурс, парадигма, экзистенциальное понимание, субъективная реальность, объективная реальность, виртуальная реальность
Короткий адрес: https://sciup.org/14126544
IDR: 14126544 | УДК: 37.013.73
Текст научной статьи Жизнь в виртуальной реальности и новая педагогическая парадигма
Последние десятилетия ознаменовались для отечественной педагогики интенсивными дискуссиями, идущими на страницах научных журналов. Оценивая жизненную силу научных дискуссий, сошлемся на работы Т. Куна. Как известно, Т. Кун ввел в научный дискурс понятие «парадигма», включающее два основных компонента: метод и научный факт. «Сетка метода» может вылавливать только определенные факты, справедливо и обратное: специфические объекты попадают только в определенные ячейки «сетки метода». Единство накладываемой на мир «сетки метода» и релевантных методологии фактов называется парадигмой. В условиях нормальной науки существует, как правило, одна парадигма, а всё, выходящее за ее рамки, рассматривается как нечто маргинальное. Однако когда разрушается соразмерность метода и факта, в силу разных причин, которые мы не будем здесь обсуждать, это сигнализирует о том, что парадигма перестала работать. Наступает период революционной науки, время пересмотра парадигмы и выхода из тени маргинальных идей, гипотез, а наиболее явным симптомом научной революции являются интенсивные дискуссии методологического характера.
Об одной из них мы хотели бы поговорить подробнее, причины нашего выбора мы объясним позже, а сейчас кратко воспроизведем основные тезисы данной дискуссии. Ее предметом является язык, в том числе и язык педагогики. Инициировал обсуждение А. А. Полонников, сформулировавший далеко не риторический вопрос: «Что значит мыслить педагогически сегодня?». Педагогическое мышление, как и любое другое, «не может не захватывать проблем использования языка, его основополагающих функций, а также более общих вопросов, связанных с процессами семиогенеза в культуре и образовании» [4, с. 86]. Это значит, что современный учитель должен обладать навыками лингвистической креативности, то есть рассматривать язык не как готовый инструмент описания мира, а как то, что конструирует мир и реализует в отношении этого мира определенные практики. В данной установке ключевыми характеристиками педагогического языка, по мнению А. А. Полонникова, становятся: антифундаментализм, антиэссенциализм, метафоричность, перформативность, локальности использования [4, с. 85]. Чем обусловлена сама необходимость лингвистического поворота в педагогике, почему мы должны пересмотреть функции языка и изменить наши подходы к пониманию языка в принципе? Потому, что изменились обстоятельства, определяющие образовательную фактичность, среди них – «практики языка, организующие содержание образования, формы, например научность, педагогические идеологии, определяющие универсум образования» [4, с. 86].
Оппоненты А. А. Полонникова мыслят в традиционной субъект-объектной парадигме, сформировавшейся в XVII–XVIII веках, со всеми необходимыми поправками, внесенными XX веком, в частности – с идеей о неразрывности субъекта-исследователя и изучаемого им объекта, то есть «картина объективного мира определяется не только особенностями этого мира, но и особенностями субъекта познания, ученого, вскрывающего и описывающего тайны окружающего мира» [2, с.74]. Цель ученого – дать истинно объективное описание «человекоразмерных объектов», дополненное аксиологическими факторами, а далее говорится о том, что эти тезисы должны быть усилены «применительно к педагогике, в которой исследователь стремится понять взаимодействие и взаимовлияние человека обучающего, развивающего и воспитывающего с человеком, принимающим «на себя» эту триаду интенций» [2, с. 74].
Мы в рамках данной статьи очень кратко воспроизвели позиции уважаемых сторон, не давая действительной картины этой интереснейшей дискуссии, так как материалы опубликованы и заинтересовавшиеся могут ознакомиться с ними самостоятельно; мы хотим поделиться размышлениями, инициированными данной дискуссией, подчеркнув, что мы не разделяем позиции ни одной из сторон. Заметим, что при всех различиях взгляды оппонентов вполне укладываются в русло европейской культуры с ее традиционными поисками оснований. Исходной точкой этих исканий является признание наличия двух видов реальности: субъективной и объективной, дрейф от одной реальности к другой и определял в конечном итоге доминирующую картину эпохи. При этом существовало убеждение, что реальность всегда может быть выражена в языке, то есть слова являются репрезентацией реальности, следовательно, мы имеем возможность прийти к согласию по поводу реальности и ее оснований. Сами основания, in concreto, для нас сейчас не важны, это могли быть вещи, как в эпоху Античности, или идеи эпохи Нового времени, или слова, как в XX веке. Конечно, это согласие не было безусловным, и наряду с доминирующими представлениями, с нормальным дискурсом существовали и маргинальные, анормальные дискурсы, но это было не столь существенно, по крайней мере сейчас и для нас. Что же изменилось? Наряду с объективной и субъективной реальностью появилась третья реальность – виртуальная. Если для большей части среднего и старшего поколения педагогов Интернет – это только средство, новая образовательная технология, то для молодых людей – это реальность, равноположная субъективной и объективной. Нам представляется, что вопрос о понимании и описании новой реальности является важнейшим вопросом современной педагогики по нескольким причинам, и прежде всего это проблема текучки учительских кадров. По данным исследования, проведенного среди учителей Петербурга, наиболее значимыми факторами, влияющими на решение учителя уйти из профессии, оказались социально-психологические факторы, характеризующие установки учителя по отношению к своей работе и к профессии в целом. К их числу относятся приверженность профессии и уверенность в своей эффективности (убежденность в своей способности управлять поведением учащихся и чему-то их научить). Как показало исследование, 33 % учителей моложе 40 лет сообщили, что не выбрали бы свою профессию, если бы могли начать свою карьеру заново [3, с. 15]. Мы полагаем, что неудовлетворенность собственным трудом во многом связана с его результатами, с отсутствием отклика со стороны учеников. Нам надо научиться говорить с учениками на одном языке, существовать с ними в одной реальности, а не в параллельных мирах, но для этого нам надо понимать, что значит жизнь в виртуальном мире.
Исследования в данной области уже ведутся, но их результаты весьма неоднозначны. Негативные оценки отсылают нас к идее Ж. Делеза о нарастающей симуляции сознания современного человека, то есть содержание сознания образуют копии, не имеющие оригинала, а тем самым сознание функционирует посредством только различий, не имеющих самотождественного основания. В этом аспекте рассматривается воздействие технического мира, прежде всего экрана, на человека как на относительно пассивный объект. У копии, чувственно воспринимаемой на экране, нет оригинала того, что возбуждает чувственность. Копия использует прошлые реакции чувственности, возникшие при живом восприятии мира. Копия не является живым существованием, так как ее подлинным оригиналом выступает система действий конструирующих ее субъектов. Иначе говоря, «оригинал экранной копии образован сложным сочетанием разнородных сил, включая, например, режиссера, оператора и т. д. Чувственность поглощает под видом живого неживое инобытие этих разнородных сил, а оно своим перевозбуждающим эталонным эффектом вытесняет критерии подлинности существования» [5, с. 123]. В качестве контраргумента мы можем заявить, что некие симулякры-посредники в отношении человека и мира существовали всегда, между человеком и живым, не виртуальным миром всегда стояли духи, боги, мифологические персонажи, научные теории, которые мы также можем оценить как ложные образы и идеи. Достаточно вспомнить работу Э. Гуссерля «Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология». Э. Гуссерль указывал, что начиная с Декарта новая идея управляет ходом развития всей европейской культуры – это «идея бесконечного рацио- нального универсума и систематически овладевающей им рациональной науки» [1, с. 39]. Сущее вообще, согласно этой идее, есть рациональное всеединство, которым можно без остатка овладеть с помощью коррелятивной универсальной науки (под наукой здесь понимается математическое естествознание). Мир, в котором мы существуем, является миром, сконструированным научными идеализациями. Э. Гуссерль в своей программе «назад, к вещам!», разумеется, не предлагает отказаться от науки в принципе, он предлагает пересмотреть то, что наука вообще означала и может означать для человеческого здесь-бытия. «Что может наука сказать о разуме и неразумении, что может она сказать о нас, людях, как субъектах свободы?» – вопрошает Э. Гуссерль [1, с. 20]. Ничего, более того, науки о фактах формируют и людей, заботящихся лишь о фактах и забывающих о смысложизненных вопросах бытия. В рамках данной статьи мы не имеем возможности далее анализировать феноменологическую философию Э. Гуссерля, для нас значимо само указание на возможность идеализации, заслоняющей реальность человеческого здесь-бытия.
Итак, в чем же отличие «ложности» виртуального мира от «ложности» мира духов, богов, идей? Довиртуальный мир, его образы были истинными проекциями собственного существования переживающего и эмоционально-чувственно или рационально воссоздававшего их человека, они так или иначе всегда были связаны с культурной традицией, придающей им смысл. Симулякр современного мира – это «чистая ложь», ложь, не соответствующая ничему. Симулякры «эксплуатируют всю массу культурных традиций и чувственно-образных содержаний культуры прошлого, ничтожат в конечном счете возможности культурно-природного естественного живого переживания и понимания существования» [5, с. 124]. Экранные образы, например красивая женщина, высокая гора, включают интегративный эффект всех разнородных, по большей части технических сил, конструирующих эти образы, поэтому воздействие экранных персонажей обладает колоссальной силой, вытесняя зачастую переживание живого существования. Известно, например, разочарование туристов, выбирающих маршруты по фотографиям в рекламных проспектах. Реальные пейзажи оказывались более блеклыми по сравнению с теми, которые им представляли с помощью технических средств. Изменяется характер чувственности и характер мышления, человек видит мир и начинает понимать себя в свете действия критериев, формируемых извне, технически, то есть это не собственное уникальное переживание человека, а, строго говоря, отрицание переживания и понимания существования самого по себе. «Экранное воздействие девальвирует критерии подлинности существования потому, что чувственность уже не разделяет существование само по себе и конкретное существование» [5, с. 124]. Таким образом, чувственность формируется под воздействием внешних по отношению к человеку критериев, а мышление определяется общезначимыми понятиями и унифицированными правилами оперирования ими, негативным результатом этих процессов является утрата человеческой субъективности и уникальности понимания, общезначимость вытесняет личностные смыслы.
На противоположном полюсе оценки виртуальной реальности расположились оптимисты, утверждающие, что новая реальность – это пространство свободы творчества и самовыражения. Мы согласны с тем, что свобода выступает необходимым условием творчества, но интернет сам по себе эту свободу не создает, и тот факт, что мы можем свободно выложить в интернете любой текст, не делает нас творцами. Кстати, мы потратили немало времени на чтение литературных сайтов, ничего похожего на «Ромео и Джульетту», к сожалению, мы не обнаружили, это были либо откровенно графоманские тексты, либо расширенный вариант того, что раньше писали на заборах. Жемчужину в навозной куче мы не нашли. Разумеется, мы совершенно не против того, чтобы люди высказывались в интернете, мы не понимаем, почему эти высказывания надо называть творчеством, то есть подменять утешительной иллюзией творчества то, что таковым является по смыслу.
Дискуссионность темы виртуальной (интернет) реальности является симптоматичной и, возможно, плодотворной, но мы хотим переместить проблему в область педагогической деятельности, которая осуществляется здесь и сейчас.
Мы предлагаем относиться к новой реальности как, используя терминологию культурологов, к экзотической культуре, то есть не рассматривать ее с позиций собственной культуры, собственных представлений о субъективном и объективном, не «набрасывать» на эту культуру сетку собственных ценностей. Иначе говоря, совершить переход от нормального дискурса, не отказываясь от него, к анормальному. Для этого нам следует занять мировоззренческую позицию, согласно которой наши описания самих себя и мира в целом, сформированные европейской наукой, только одни из многих возможных, и наряду с ними существуют различные альтернативные описания, все они являются частью обширнейшего репертуара описаний, находящегося в нашем распоряжении. Напомним, что философская рефлексия на эту тему была осуществлена в экзистенциализме, в частности Ж.-П. Сартром, утверждавшим, что человек не обладает никакой заранее заданной сущностью, его существование – это свободно реализуемый проект. В контексте нашей статьи высказывание Сартра может быть интерпретировано следующим образом: если мы придерживаемся только нормального дискурса, выстроенного на субъект-объектных основаниях, и отвергаем альтернативные, анормальные дискурсы, то мы бежим от свободы, мы прячемся от бремени человеческого существования. «Даже когда мы знаем объективно истинные описания нас самих, мы всё еще не знаем, что нам делать с собой» [6, с. 269].
Что нам, педагогам, дает такая позиция? Она спасает нас от опасного заблуждения, будто мы обладаем истиной, которую мы и должны транслировать ученикам, она помогает поместить наши научные, объективные знания в рамки более широкой картины мира, в которой свое место найдет и новая виртуальная реальность. И еще один важный результат данной методологической установки – она помогает нам преодолеть разрыв между фактом и ценностью. Как известно, образование – это социальный институт, в рамках которого осуществляется деятельность по формированию личности на основе сложившихся социокультурных принципов. Нормальный дискурс современной педагогики, сформировавшийся в классическую эпоху, опирается на принцип приоритета разума в познании, в соответствии с которым предметом обучения должен быть объективный мир. Истинное знание об объективном мире способны выработать только естественные науки, поэтому они и составляли основу образования, проблема ценностного самоопределения человека как вторичная отдавалась гуманитарным наукам и постепенно вымывалась из образования. Такое различение фактов и ценностей, вер и установок выглядит вполне правдоподобным и умещается в субъект-объектную схему познания с ее противопоставлением человека и объективного мира. В современном мире положение человека изменилось, возникла, как мы уже говорили, триада объективной, субъективной и виртуальной реальности. При этом виртуальная реальность не только играет роль средств познания, но и является основой для формирования новых значений и смыслов. Виртуальная реальность по своей структуре и содержанию такова, что она не просто дает возможность, а вынуждает человека делать выбор; в этом море информации без собственной системы координат, без отрефлексиро-ванной, с той или иной степенью отчетливости, системы ценностей человек в конечном итоге существовать не сможет. Действительная проблема выбора для современного человека состоит в том, что культуры прошлых эпох создавали центрированные картины мира, картины, в которых ценности иерархически располагались вокруг некоего абсолютного смыслового центра, им мог быть Бог, наука и т. д. Человеческое «я» было адекватно тотальности абсолютного смысла бытия, открывавшегося пониманию человека. Собственно выбор и заключался в поисках путей этого понимания, которое в конечном итоге станови- лось самопониманием. Известны, например, поиски смыслов, душевные терзания Августина Блаженного, И. Ньютона или Р. Декарта, но это было самоопределение в рамках имеющейся системы ценностей, их «я» изначально оставалось абсолютно центрированным. «Я» современного человека утратило абсолютность и центрированность, оно множественно, фрагментарно, и собрать его воедино можно, как нам представляется, лишь на пути экзистенциального понимания собственного существования. «Экзистенциальное понимание – это целостность всех познавательных способностей, превращающая любое значение в смысл проявления этой целостности. Смысл, рождающийся из целостности познавательных способностей, определяет сближение и совпадение значений истины и ценности. Личность в процессе духовного самоопределения соединяет исходные ценности и фундаментальные истины в убеждениях, принципах понимания себя и мира в целом» [5, с. 165].
И в заключение мы ни в коем случае не предлагаем радикально пересмотреть содержание образования. Мы считаем, что образование должно начинаться с окультуривания, то есть с усвоения образцов классической культуры, составляющих содержание нормального дискурса, однако мы не можем свести образование к обучению достижениям классической науки. Наше нормальное участие в нормальном дискурсе – это просто один из многих проектов, один из способов бытия в мире. Возможны и другие, которые нам дает новая виртуальная реальность.
Список литературы Жизнь в виртуальной реальности и новая педагогическая парадигма
- Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. СПб.: Владимир Даль, 2014. 399 с.
- Коржуев А. В., Антонова И. Н. Педагогическое знание и его репрезентация в научном тексте в реалиях «семиологического поворота» (диалог с А. А. Полонниковым) // Высшее образование в России. 2018. № 1. С. 70–78.
- Маслинский К. В., Иванюшина В. А. Остаться учителем? Факторы, влияющие на отношение к уходу из учительской профессии // Вопросы образования. 2016. № 4. С. 8–30.
- Полонников А. А. Что значит мыслить педагогически сегодня? // Высшее образование в России. 2018. № 1. С. 79–89.
- Поросенков С. В., Власова Н. А. Качественные изменения человека в информационном обществе и развитие образования. Пермь: От и До, 2012. 2016 с.
- Рорти Р. Философия и зеркало природы. Новосибирск: Изд-во НГУ, 1997. 320 с.