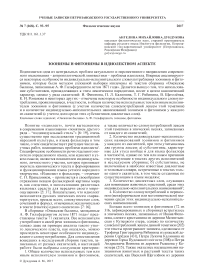Зоонимы и фитонимы в идиолектном аспекте
Автор: Дундукова Ангелина Михайловна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 7 (168), 2017 года.
Бесплатный доступ
Поднимается одна из центральных проблем актуального и перспективного направления современного языкознания - антропологической лингвистики - проблема идиолекта. Впервые анализируются некоторые особенности индивидуально-исполнительского словоупотребления зоонимов и фитонимов, которые были методом сплошной выборки извлечены из текстов сборника «Онежские былины, записанные А.Ф. Гильфердингом летом 1871 года». Делается вывод о том, что использование субстантивов, принадлежащих к этим лексическим парадигмам, носит в целом канонический характер, однако у ряда сказителей: И. Фепонова, П.Л. Калинина, Т.Г. Рябинина, В. Щеголёнка, К.И. Романова и некоторых других - отмечены некоторые особенности индивидуального словоупотребления, проявляющиеся, в частности, в общем количестве используемых тем или иным исполнителем зоонимов и фитонимов (с учетом количества словоупотреблений лексем этой тематики) и в количестве индивидуально-исполнительских наименований зоонимов и фитонимов у каждого из сказителей (с учетом доли среди этих субстантивов диалектных слов).
Идиолект, "онежские былины" а.ф. гильфердинга, зоонимы, фитонимы
Короткий адрес: https://sciup.org/14751247
IDR: 14751247 | УДК: 811.161.1.37
Текст научной статьи Зоонимы и фитонимы в идиолектном аспекте
Понятие «идиолект», почти вытесненное в современном языкознании «понятием другого ряда – “индивидуальный стиль”» [6: 19], очень существенно при исследовании традиционной народной культуры, и языка фольклора в том числе, о чем свидетельствует растущее число научных работ, посвященных проблеме идиолекта1. Специфические особенности речи отдельного носителя определенного языка, или идиолект в узком смысле, являются показателем индивидуального, личностного участия, которое принимает носитель канонического текста в формировании и функционировании языка устного народного творчества. «Идиолект в фольклоре, – отмечает С. П. Праведников, – проявляется в своеобразии отражения певцом фольклорной картины мира и, как следствие, в использовании различных языковых средств для передачи своего мироощущения» [5: 37]. Показательно, что идиолект исполнителя русских эпических песен «характеризуется, прежде всего, совокупностью слов, сочетаний и формул, отмеченных исключительно в тексте (текстах) одного сказителя» [7: 16].
В сборнике «Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом летом 1871 года»2 представлены тексты 71 сказителя. Все исполнители употребляют в своей речи зоонимы и фитонимы, однако даже на примере анализа такого узкого лексического пласта, как оказалось, можно проследить некоторые особенности индивидуального словоупотребления. Для сопоставления вошедших в исследуемый сборник текстов, записанных от разных сказителей, в настоящей работе были выбраны следующие критерии:
-
1. Общее количество используемых тем или иным исполнителем зоонимов и фитонимов,
-
2. Количество индивидуально-исполнительских наименований зоонимов и фитонимов у каждого из сказителей, при этом учитывались две группы лексем: а) субстантивы, характерные для узуса вообще и для языка фольклора в частности, однако по тем или иным причинам отсутствующие в текстах других исполнителей в исследуемом сборнике; б) субстантивы, не включенные в наиболее известные диалектные и толковые словари, встреченные в текстах только одного сказителя, в том числе созданные по существующим в языке моделям;
-
3. Количество диалектных слов, служащих для номинации животных и растений, среди этих индивидуально-исполнительских наименований3;
-
4. Количество словоупотреблений в переносном (метафорическом или метонимическом) значении среди этих индивидуально-исполнительских наименований.
а также количество словоупотреблений лексем этой тематики в эпических песнях, записанных от каждого из сказителей;
Больше всего зоонимов и фитонимов (72 из 316, зафиксированных в сборнике) встретилось в эпических песнях, записанных от Ивана Фепо-нова, слепого крестьянина из деревни Мелентьев-ская у Купецкого озера, однако по количеству словоупотреблений лексем данной тематики (202) эти тексты проигрывают записям, сделанным от Трофима Григорьевича Рябинина из кижской деревни Серёдки (431), Петра Лукича Калинина из деревни Горка Пудожского погоста (308) и Петра Андреевича Воинова из деревни Рыжкова у Ке-нозера (215). Также оказались насыщенными названиями животных и растений тексты таких сказителей, как Василий Щеголёнок из деревни
Боярщины Кижской волости (60 лексем, 169 словоупотреблений) и названные выше П. Л. Калинин и Т. Г. Рябинин: 57 (308) и 49 (431) лексем и словоупотреблений соответственно.
С точки зрения употребленных в текстах «Онежских былин» индивидуально-исполнительских наименований животных и растений также наиболее показательны записи, сделанные от И. Фепонова: в них зафиксировано 12 лексем этой тематики: «берёзища», «завороночок», «зайко», «кокуша», «куропат», «ракитов кустик», «ракитов кустичек», «синька», «скотинина», «тер-пук», «филин», «щенок»: Налетела мала птица, певчий завороночок (Наезд литовцев, 1; 557; 64); А терпук-от [за морем] был трапезник (Птицы и звери, 1; 563; 60). По десять индивидуальноисполнительских наименований встретилось в текстах В. П. Щеголёнка («вороница», «ворть», «косач», «кустышек», «муха», «пташка», «репка», «сойка», «цветик», «чирка»): Ворть был на море старец (Птицы, 2; 379; 77); [Добрыня – Маринке]: Да нам нужно повенчаться с тобою около кустышка (Добрыня и Маринка, 2; 335; 70) и П. Л. Калинина («горносталик», «горно-сталышко», «гусёныш», «зверюшка», «коровушка», «овечка», «овца», «птиценька», «птицушка», «скот»): Обвернулся он [Микита] да горноста-лышком (Наезд литовцев, 1; 232; 108); Вдруг запели тые птицушки певучии (Дюк, 1; 212; 545); по девять – в текстах Т. Г. Рябинина («горносталь-чик», «жеребятушко», «змеиныщо», «змеичищо», «крапивушко», «кречень», «собачище», «травушка», «утёнушек»): А й змеиныщо да то Горыни-що, а й о трех змеиныщо о головах… (Добрыня и змей, 2; 57; 115–116); Да й [не нашел молодец] не малого да перелетнаго утенушка (Королевичи из Крякова, 2; 143; 11) и Кузьмы Ивановича Романова из деревни Логма Сенногубской волости («зверок», «науй», «осетринка», «плотиченка», «пташица», «рыбка», «сёмжинка», «траванька», «щученка»): Повернулся Вольга сударь Буславле-вич науй птицей (Вольга, 2; 175; 65); Траванька в чистом поле повянула (Дунай, 2; 188; 202).
Отличаются записи, сделанные от разных исполнителей, и по количеству диалектизмов, входящих в число индивидуально-исполнительских наименований животных и растений. Больше всего таких слов зафиксировано в эпических песнях, записанных от И. Фепонова (9) и Т. Г. Рябинина (9); довольно много диалектных зоонимов и фитонимов встретилось в текстах К. И. Романова (6), Андрея Ильича Максимова из деревни Немятовская у Кунозера (6) и П. Л. Калинина (5). Индивидуально-исполнительские диалектизмы у всех этих сказителей в основном относятся к числу словообразовательных, хотя есть отдельные примеры собственно лексических, фонетических, семантических и морфологических.
С точки зрения количества словоупотреблений в переносном (метафорическом или метони- мическом) значении среди индивидуально-исполнительских наименований принципиального отличия не наблюдается: чаще всего подобных «окказиональных» словоупотреблений нет, а если они и встречаются, то в очень небольшом количестве: от одного до трех случаев у каждого из сказителей. Так, например, в текстах, записанных от В. П. Щеголёнка, зафиксировано одно метафорическое (лексема «муха») и два метонимических словоупотребления (фитоним «репка»): [Святогор об ударах богатыря]: «Как кусают мухи русскии да до-больня» (Святогор и Садко, 2; 308; 76); Репки [заяц] не паше, репкой сыт пребывает (Птицы, 2; 380; 100–101), от И. Фепо-нова – одно метафорическое (зооним «щенок») и дважды употребление индивидуально-исполнительского субстантива в сравнительном обороте (лексема «скотинина»): [Роман Митриевич о ливиках]: Не дойдет-то им щенкам да насмеха-тисе (Наезд литовцев, 1; 157; 93); Укротил [Доб-рыня] змею да как скотинину, а й аки скотинину да крестьянскую (Добрыня и змей, 1; 548; 358– 359), от Т. Г. Рябинина и А. И. Максимова – по одному метафорическому (субстантивы «собачище» и «воробык» соответственно): [Илья – коню]: Ай же ты собачище изменное (Илья Муромец и Калин царь, 2; 28; 400); [князь – Добрыне]: Молодой воробык, не вылетывай (Добрыня, 3; 585; 22). В большинстве случаев переносные значения употребляемых в текстах «Онежских былин» индивидуально-исполнительских зоонимов и фи-тонимов имеют узуальный характер. Подобная картина вполне ожидаема: былины (а именно они составляют основу сборника А. Ф. Гильфер-динга) – жанр, который в силу своих и содержательных, и формальных особенностей является в фольклоре одним из самых стабильных, имеет явную установку на долгосрочность, поэтому сказитель, внося в исходный текст в том числе индивидуальные особенности словоупотребления, все-таки старается следовать канону.
Однако в языке фольклора благодаря импровизации соблюдение традиции все же не становится штампом, поскольку иначе «произведение механизировалось бы, потеряло бы одну из своих основных функций – воздействие на слушателей – и постепенно должно было бы исчезнуть из фольклорного репертуара» [1: 400]. В результате совмещения канона и индивидуально-исполнительских особенностей в произведениях устного народного творчества возникает так называемая вибрация текста, то есть «варьирование как чередование обратимых замен элементов с одинаковыми функциями» [9: 109]. Подобная «вибрация» в области употребления субстантивов, служащих для номинации животных и растений, таким образом, заметнее всего в текстах, записанных от таких сказителей, как И. Фепонов, П. Л. Калинин, Т. Г. Рябинин, В. Щеголёнок, К. И. Романов и некоторых других.
Список литературы Зоонимы и фитонимы в идиолектном аспекте
- Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства. М.: Искусство, 1971. 544 с.
- Караваева М.А. Особенности идиолекта былинного певца: (на примере сравнительного анализа конкретной лексемы в творчестве двух сказителей)//Фольклорное слово в лексикографическом аспекте. Курск, 1994. Вып. 1. С. 24-27.
- Караваева М.А. Идиолект былинного певца: Дис.. канд. филол. наук. Курск, 1997. 230 с.
- Макарова Н.В. Идиолект сказителя в аспекте былинного текстообразования: Дис.. канд. филол. наук. Воронеж, 2000. 198 с.
- Праведников С.П. Пути возникновения в языке фольклора различий территориального характера//Вестник Московского государственного областного университета. Серия: русская филология. 2010. № 1. С. 35-38.
- Толстой Н.И. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М.: Индрик, 1995. 512 с.
- Холтобина А.С. Лексика былинного текста: жанровый, диалектный и идиолектный аспекты (На материале эпических текстов Т.Г. Рябинина): Дис.. канд. филол. наук. Белгород, 2015. 202 с.
- Хроленко А.Т. Идиолект былинного певца в словаре языка русского фольклора//Мастер и народная художественная традиция Русского Севера. Петрозаводск, 2000. С. 298-308.
- Чистов К.В. Фольклор. Текст. Традиция: Сб. ст. М.: ОГИ, 2005. 272 с.