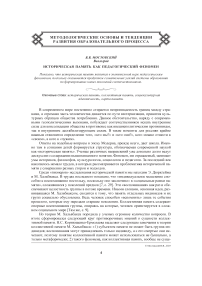Историческая память как педагогический феномен
Автор: Мостовский В.В.
Журнал: Известия Волгоградского государственного педагогического университета @izvestia-vspu
Рубрика: Методологические основы и тенденции развития образовательного процесса
Статья в выпуске: 7 (200), 2025 года.
Бесплатный доступ
Показано, что историческая память является в значительной мере педагогическим феноменом, поскольку оказывается продуктом сознательных усилий системы образования по формированию новых поколений соотечественников
Историческая память, коллективная память, социокультурная идентичность, карта памяти
Короткий адрес: https://sciup.org/148331972
IDR: 148331972
Текст научной статьи Историческая память как педагогический феномен
В современном мире постепенно стирается непроницаемость границ между странами, а огромная часть человечества движется по пути вестернизации, принятия культурных образцов общества потребления. Данное обстоятельство, наряду с современными геополитическими вызовами, побуждает соотечественников искать внутренние силы для консолидации общества в противовес как внешнеполитическим противникам, так и внутренним дестабилизирующим силам. В такие моменты для россиян крайне важным становится определение того, «кто мы?» и «кто они?», кого можно отнести к «своим», а кого к «чужим».
Ответы на подобные вопросы в эпоху Модерна, прежде всего, дает школа. Именно там в сознании детей формируется структура, обозначаемая современной наукой как «историческая память». Ученые различных направлений уже довольно долго ведут дискуссии о содержании вышеназванного понятия. Феномен, им отражаемый, занимает умы историков, философов, культурологов, социологов и педагогов. За последний век накопилось немало трудов, в которых рассматривается проблематика исторической памяти с совершенно разных сторон и подходов.
Среди «пионеров» исследования исторической памяти мы находим Э. Дюркгейма и М. Хальбвакса. В трудах последнего показано, что «индивидуальное мышление способно к воспоминанию постольку, поскольку оно заключено» в «социальные рамки памяти», сложившиеся у поколений предков [7, с. 29]. Эти «воспоминания» как раз и обеспечивают целостность группы в потоке времени. Иными словами, основная идея, развивавшаяся М. Хальбваксом, сводится к тому, что память отдельных индивидов и их групп социально обусловлена. Ведь человек способен «вспомнить» лишь те события прошлого, которые ему передали старшие поколения. Коллективная память содержит опорные воспоминания группы, опираясь на которые, человек ориентируется в сложном социальном мире [Там же, с. 9].
Но теория М. Хальвбакса породила у ученых огромное количество вопросов. В итоге сформировался следующий круг противоречивых мнений о сущности коллективной памяти. Н.С. Корнющенко-Ермолаева выделяет следующие замечания к теории коллективной памяти М. Хальвбакса: «1) субъектом памяти не может быть группа индивидов; воспоминания могут принадлежать только индивиду, а с его смертью они исчезают, поэтому понятие коллективной памяти может использоваться не буквально, а только метафорически; 2) такого феномена, как коллективная память, вообще не суще
ствует; то, что называют коллективной памятью, является не воспоминанием, а соглашением между людьми; 3) в связи с переходом от критики идеологии к коллективной памяти, произошедшим во второй половине 20 века, понятие коллективной памяти заменило собой понятие идеологии» [2, c. 65].
В свою очередь, А. Ассман указывает, что коллектив сам по себе обладать памятью не может, что эта память складывается из индивидуальной памяти его членов, оказывающей на них влияние. При этом, у А. Ассман коллективная память не едина с точки зрения структуры. Она пишет об этом так: существует «четыре формации, которые различаются по критериям пространственно-временного диапазона, по размеру группы, а также по ее неустойчивости или стабильности: память индивидуума, социальной группы, политического коллектива нации и, наконец, память культуры…» [1, с. 19].
Такое разделение памяти довольно точно, на наш взгляд, характеризует сложность отделения одних воспоминаний от других в разуме отдельного члена коллектива. Индивидуальная память в данном случае наиболее проста для определения, но даже при осмыслении этого феномена всплывают «подводные камни». Наши воспоминания далеко не всегда точны и полны. Они фрагментарны и не всегда отражают объективную реальность. А. Ассман, вслед за М. Хальвбаксом, выделяет память поколений, которая у нее называется социальной и является вторым «уровнем». А. Ассман так пишет о памяти поколения: «… в возрасте от двенадцати до двадцати пяти лет люди особенно восприимчивы к полученному опыту, поэтому данный период имеет определяющее значение для всей последующей жизни человека и для развития его личности. Являясь наблюдателем, действующим лицом или жертвой, индивидуум всегда включен в динамичный контекст исторического процесса. Каждый человек формируется под воздействием ключевых исторических событий своего времени независимо от того, разделяет он или нет с другими представителями своей возрастной когорты те или иные убеждения, установки, мировоззренческие взгляды, социальные ценности и культурные парадигмы» [Там же, c. 23].
Идея объединенной памяти поколения, связанной с психологической обработкой и рефлексией значимых мировых событий, находит отражение и в работах российских ученых (Г.А. Николаенко и Е.В. Евсикова). Указанные авторы поддерживают А. Ассман в том, что «выделение поколений, основанное не только на возрастном признаке, но также и на причастности к резонансным историческим событиям, способным изменить социальную структуру (война, революция и т.д.), позволяет значительно в лучшей степени изучить так называемые поколенческие различия, в том числе динамику памяти» [4, c. 124].
Третий уровень памяти по А. Ассман – культурная память или же коллективная память, которая разделяется на культурную и политическую (они между собой близки, но не тождественны). Культурная память формируется со сменой поколений. А. Асс-ман говорит, что нужно не менее 30 лет для того, чтобы формирующее или «травмирующее» событие одного поколения стало коллективной памятью последующего. В качестве примера она приводит как немцев, так и американцев, которые только через тридцать лет смогли почтить в Далласе и Мемфисе убитых там президента Джона Ф. Кеннеди и Мартина Лютера Кинга соответственно [1, c. 25]. При этом А. Ассман вступает в дискуссию о коллективной памяти, фактически начатую М. Хальвбаксом. Именно А. Ассман говорит о переходе понятий «мифа» и «идеологии» в культурную и политическую память соответственно. Она констатирует: если ранее, в течение XX в., многие ученые отрицали факт наличия коллективной памяти, считали ее государственным конструктом, необходимым для сплочения народных масс в условиях масштабных реформ и военных конфликтов, то к концу столетия стало понятно, что обращение к прошлому является не политическим ходом, а неотъемлемым свойством любого народа.
Однако ни М. Хальбвакс, ни А. Ассман не рассматривали «историческую память» как феномен собственно педагогической деятельности, поэтому интерес представля-
ИЗВЕСТИЯ ВГПУ ют исследования Л.Н. Мазур, которая, основываясь на работах Л.П. Репиной, выделила ее источники и механизмы. Она пишет: «Роль источника связана с задачами фиксирования и преобразования исторической информации в образы или логические структуры. Механизм отвечает за трансляцию имеющихся в обществе исторических знаний и представлений» [3, c. 247]. К источникам, по мнению Л.Н. Мазур, относятся и наука, и искусство, и личный опыт человека. Все это помогает сформировать образ прошлого, который является важнейшим элементом исторической памяти. Последний выступает конструктом, формируемым на основе исторического факта с помощью науки и искусства и передаваемым человеку образованием. Фактически образ прошлого – это важнейший элемент исторической памяти, ее краеугольный камень, это четкая ассоциация. Заметим, что в XX веке наблюдается много примеров намеренного государственного конструирования образов прошлого, что особенно проявилось в СССР, когда исторический нарратив формировался в стране заново, по всем возможным каналам. Особенно ярко это видно на приведенном Л.Н. Мазур примере конструирования образа Александра Невского. Продолжая идею образа прошлого как основного структурного элемента исторической памяти, она развивает ее и говорит о перерастании образа в «исторический миф». Так Л.Н. Мазур пишет: «Чтобы подняться на уровень мифа, он должен соотноситься с имеющимися в общественном сознании архетипами и обладать определенной ценностью и актуальностью» [Там же, c. 250]. Обращаясь к трудам М. Элиаде, она цитирует слова ученого о том, что память об историческом событии или подлинном персонаже существует не более двух-трех веков, а затем становится скорее мифологическим феноменом [Там же].
Заметим, что все эти образы и мифы существуют не в отрыве друг от друга, а в едином пространстве , которое в науке нередко называют «картой памяти». Последняя подвижна, за исключением каркаса из важнейших исторических событий и личностей. Во многом именно этот каркас определяет само существование этноса, его фундаментальные ценности и нормы.
Зададимся вопросом: формируется ли историческая память сама по себе или ее создают усилиями извне? Ответ на этот вопрос может быть двойственным. Определенно нельзя сказать, что вся многовековая память народа создается по чьей-то воле. Она всегда живая конструкция, основанная на травмах поколений, которые объединяют самых разных людей одного возраста. Да, многие эти «травмы» антропогенной природы (социальные катаклизмы: войны, революции, кризисы). Часто эти катаклизмы отображаются на жителях только конкретной страны и / или региона, формируя тем самым уникальный социальный опыт местных жителей. Кроме того, этот опыт проходит через сознание людей, его переживших. Но возникает вопрос: где заканчивается отчасти случайная череда «травм» и начинается сознательное конструирование памяти человека и общества?
Правительства многих стран неоднократно сталкивались с необходимостью формирования у своих граждан нового взгляда на историю. Часто они инициировали процесс отказа от многих устоев прошлого, героев и отношения к определенным событиям дня минувшего. Наиболее ярким в этом ряду стал советский «эксперимент», в рамках которого прилагались усилия по формированию единого советского народа. В 1920–1980-е гг., наряду с отечественными кинематографистами, литераторами и живописцами, партийные идеологи вносили в сознание современников своеобразную советскую карту памяти. При этом нельзя сказать, что историческая память в тот период выстраивалась с нуля. Если в самом начале советской эпохи действительно существовала тенденция на отрицание прошлого как в исторической науке («школа Покровского»), так и в литературе (работы Демьяна Бедного), то уже в 1930-х гг. последовал «идейный разворот». Снимались кинофильмы о героях прошлого («Суворов», «Александр Невский»), некоторые персонажи национальной истории получали новую для «марксистско-ленинской идеологии» эмоциональную окраску («Иван Грозный»). Дополнялась данная политико-идеологическая рабо- та революционной героикой. Таким образом, происходило не формирование нового исторического сознания, а редактирование уже существующего. В сложившиеся ранее образы народных героев вкладывались новые смыслы, некоторые личности и события выдвигались на передний план, а другие вспоминались реже. Следовательно, мы имеем дело не столько с моделированием, сколько с модерацией содержания исторической памяти со стороны партийно-государственных структур. Кроме того, историческая память формировалась в те годы и продолжает складываться сегодня не только государством, но и художественными образами, созданными без его участия (например, заблуждение о продаже Аляски Екатериной II, возникшее из-за песни группы «Любэ»).
Историческая память «представляет собой репрезентацию событий минувшего, выполняющую три важнейшие функции: обоснования социокультурной инаковости, воспроизводства общности как уникального и неповторимого феномена, вынесения оценок степени соответствия позиции индивида нормативным для общности взглядам на прошлое, настоящее и будущее» [5, с. 3–4]. Выполнение этих функций осуществляется, прежде всего, системой образования. Соответственно ею, как отмечает С.Г. Новиков, обеспечивается присвоение обучающимися когнитивного элемента исторической памяти (знания о ключевых событиях и фигурах отечественного прошлого), мотивационно - ценностного (базовых ценностей) и рефлексивного (социокультурная самоидентификация индивида) элементов [6, с. 116–118].
Подытожим сказанное. Историческая память, во-первых, объединяет людей определенного этноса или нации за счет происходивших с ними исторических событий; во-вторых, подвижна, изменчива, каждое поколение вносит в нее свои элементы; в-третьих, вырабатывается на основе не только реальных событий, но и посредством художественных произведений; в-четвертых, закладывает в сознание подрастающих поколений ценности, идеалы, «национальные мифы»; в-пятых, формирует коллективное отношение членов общества к прошлому, определяющее их взгляд на собственное настоящее; в-шестых, выполняет благодаря институту образования ряд функций, скрепляющих людей в социокультурную целостность.