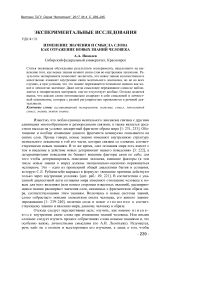Изменение значения и смысла слова как отражение новых знаний человека
Автор: Яковлев Андрей Александрович
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Экспериментальные исследования
Статья в выпуске: 4, 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена обсуждению результатов эксперимента, нацеленного на выяснение того, как новые знания меняют связи слов во внутреннем лексиконе. Результаты эксперимента позволяют заключить, что новое знание количественно и качественно изменяет внутренние связи ментального лексикона, но не во всех случаях, а при условии, что это знание переживается человеком именно как новое и личностно значимое. Даже когда смысловое переживание слова не наблюдается в эмпирическом материале, оно не отсутствует вообще. Отсюда делается вывод, что каждое слово потенциально содержит в себе смысловой и личностный компоненты, которые с разной регулярностью проявляются в речевой деятельности.
Ассоциативный эксперимент, значение, смысл, личностный смысл, знания, живое знание
Короткий адрес: https://sciup.org/146278362
IDR: 146278362 | УДК: 81'23
Текст научной статьи Изменение значения и смысла слова как отражение новых знаний человека
Известно, что любая единица ментального лексикона связана с другими единицами многообразными и разнородными связями, а также является средством выхода на условно дискретный фрагмент образа мира [1: 231, 233]. Обогащение и вообще изменение данного фрагмента неминуемо сказывается на связях слов. Проще говоря, новые знания изменяют внутреннюю структуру ментального лексикона в той его части, которая связана со словами, соответствующими новым знаниям. В то же время, «акт познания мира есть вместе с тем и введение в действие новых детерминант нашего поведения» [3: 222], а детерминантами поведения не бывают внешние факторы сами по себе; для того чтобы детерминировать поведение человека, внешние факторы (в том числе новые знания о мире) должны эмоционально-оценочно переживаться человеком. Это - одно из проявлений общей диалектики бытия и сознания, которую С.Л. Рубинштейн выражал в формуле: «внешние причины действуют только через внутренние условия» [цит. раб.: 49, 221]. В соответствии с указанной диалектикой акты познания мира изменяют отношение человека к новым для него явлениям (или новым сторонам известных явлений), расширяющиеся знания расширяют значения слов, связанных с фрагментами образа мира, соответствующими этим знаниям. Включаясь в новые системы знаний, слово «обрастает» новыми элементами опыта человека, его живого знания-переживания [1: 239-240], включая сюда и новое отношение к соответствующему знанию и явлению мира, данному человеку в образе.
Отсюда следует перспективная цель: изучить, как именно изменяются внутренние связи слова при изменении знаний человека. Или иными словами: следует изучить процесс «обрастания» слова новыми знаниями и, что особенно важно, личностными смыслами (по А.Н. Леонтьеву). Разумеется, речь идёт не о полном и всестороннем его изучении, а лишь о том, чтобы наметить пути к нему. Сложность здесь состоит в том, что знания изменяются не скачкообразно, а путём постепенного накопления и постепенного же изменения. По этой причине изменения эмоционально-оценочного компонента знаний и соответствующих слов в норме почти незаметны. Отсюда, в свою очередь, следует, что для более явного их выделения из всего континуума психической жизни человека необходим специально организованный эксперимент, нацеленный на выявление того, как эмоционально-оценочный компонент новых знаний проявляется во внутренних связях ментального лексикона. Иначе: как, при каких условиях и в каких типах связей между словами проявляется эмоционально-оценочный компонент нового фрагмента образа мира.
С этой целью нами был проведён эксперимент, состоявший из двух этапов и охватывавший две группы испытуемых (далее - Ии.). На первом этапе первой группе Ии. давались для ознакомления три текста, которые содержали информацию о том, что такое вивисекция, пассерование и окклюзия, после чего проводился свободный ассоциативный эксперимент, в стимульном материале которого были слова, значение которых раскрывались в текстах для ознакомления. Второй группе Ии. тексты для ознакомления не давались, ассоциативный эксперимент проводился с тем же стимульным материалом. На втором этапе эксперимента (через неделю) первой группе давались тексты о тех же явлениях, но дополненные такой информацией, которая должна была вызвать у Ии. эмоциональное переживание, и второй группе давались эти же тексты, после чего в обеих группах проводился свободный ассоциативный эксперимент. Стимульный материал второго и первого этапа характеризовался тем, что в бланках повторялись такие стимулы, как ВИВИСЕКЦИЯ, ОККЛЮЗИЯ, ПАССЕРОВАНИЕ, ТЕНЗОР, ЛИГИРОВАНИЕ, ГЛИАЛЬНЫЙ, которые давались вперемешку с другими словами (разными на первом и втором этапе), чтобы избежать появления нежелательной связи между реакциями на эти интересующие нас стимулы. Предполагалось, что все перечисленные слова-стимулы, кроме тех, которые добавлены для «шума», незнакомы Ии. и что наличие среди стимулов таких слов, для которых не давалось ознакомительных текстов, более рельефно оттенит изменения, происходящие при обогащении знаний.
Поскольку ознакомительные тексты первого этапа эксперимента содержали несколько расширенное и упрощённое «сухое» научное определение данного слова, гипотеза, положенная в основу эксперимента, состояла из трёх частей и формулировалась следующим образом: 1) в реакциях первой группы Ии. на первом этапе эксперимента будут прослеживаться связи между стимулом и реакцией, не содержащие эмоционально-оценочного переживания, тогда как на втором этапе подобных реакций будет значительно больше; 2) реакции второй группы Ии. на первом этапе эксперимента не будут выявлять существенных связей со знаниями и эмоциями, на втором этапе появится качественный «скачок» и основные тенденции совпадут с реакциями Ии. первой группы; 3) реакции на слова без ознакомительных текстов на всех этапах не будут проявлять связи со знаниями и эмоциями.
На первом этапе эксперимента первая группа Ии. насчитывала 57 человек, вторая - 72, по разным причинам на втором этапе в первой группе было 56 человек, во второй - 62. Все участники второго этапа участвовали и в первом.
Согласно устной инструкции экспериментатора, Ии. давали до трёх реакций на предложенные стимулы, записывая их в специально отведённых строках в бланках. Коль скоро слова в ментальном лексиконе входят в контексты различной протяжённости [1: 69], мы полагаем, что задание дать три реакции охватывает именно такие различные по протяжённости фрагменты образа мира. В общей сложности материалом исследования послужили 2198 реакций (сумма реакций на 6 названных выше стимулов), включая и нулевые реакции – пропуски в бланках.
Количественные данные обоих этапов эксперимента приведены в таблице, которая требует пояснений. Формальными реакциями названы реакции, объединяющие слова по формальному их сходству, например: ТЕЗОР – цензор ; тенор ; сенсор , ГЛИАЛЬНЫЙ – гениальный ; глина . Смысловыми реакциями названы такие, которые, по нашему мнению, связаны со стимулом именно по личностному смыслу, в основном это реакции с ярко выраженным эмоциональным компонентом.
Таблица. Распределение реакций двух этапов эксперимента
|
bS К w о к m к m |
к 2 о |
w К к < m о рц W О О < |
О го W н |
W о рц К |
1g |
6S W о m |
ts го 2 о |
W о рц W О О |
рц О го W н |
W о рц К К |
||
|
Этап 1 |
Этап 2 |
|||||||||||
|
Группа 1 |
||||||||||||
|
Всего реакций |
108 |
106 |
103 |
69 |
68 |
64 |
118 |
123 |
123 |
67 |
66 |
71 |
|
Различных реакций |
54 |
40 |
48 |
33 |
34 |
27 |
59 |
56 |
54 |
26 |
35 |
31 |
|
Нулевых реакций |
0 |
1 |
1 |
20 |
30 |
28 |
3 |
1 |
0 |
29 |
29 |
26 |
|
Формальных реакций |
0 |
0 |
0 |
20 |
8 |
10 |
0 |
0 |
0 |
14 |
4 |
14 |
|
Смысловых реакций |
4 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
Группа 2 |
||||||||||||
|
Всего реакций |
86 |
86 |
86 |
88 |
94 |
87 |
117 |
114 |
124 |
78 |
76 |
76 |
|
Различных реакций |
45 |
34 |
44 |
49 |
53 |
30 |
56 |
42 |
53 |
42 |
41 |
44 |
|
Нулевых реакций |
34 |
33 |
37 |
29 |
34 |
41 |
2 |
0 |
0 |
24 |
29 |
25 |
|
Формальных реакций |
7 |
21 |
6 |
14 |
13 |
18 |
0 |
0 |
0 |
9 |
10 |
10 |
|
Смысловых реакций |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
Первый взгляд на таблицу позволяет однозначно сказать, что третий пункт приведённой выше гипотезы подтверждается. Большое количество формальных реакций говорит о том, что данные слова, являясь незнакомыми, всё же подвергаются осмыслению. Нулевые реакции (которым в психолингвистических исследованиях, к сожалению, не уделяется должного внимания) сами по себе не свидетельствуют в пользу отсутствия за ними знаний и осмысления. Знания типа «это слово мне незнакомо» - тоже знания, которые могут быть вполне осмысленными и эмоционально переживаемыми (характерным примером здесь может быть реакция, полученная на втором этапе во второй группе Ии.: ОККЛЮЗИЯ - так и не поняла ). Другое дело, что таким знаниям легко проявиться в формальных реакциях на стимул ТЕНЗОР и трудно - на стимул ВИВИСЕКЦИЯ: первое осмысляется как незнакомое и похожее на такие-то знакомые слова, второе - как незнакомое и непохожее на известные слова.
Из таблицы видно также, что, как и предполагалось во втором пункте нашей гипотезы, реакции второй группы Ии. на первом этапе не проявляют связей, обусловленных знаниями, о чём говорит большое количество формальных и нулевых реакций. Реакции на неизвестные слова на обоих этапах проявляют в основном формальные связи со стимулом либо отсутствуют.
Если говорить о первом пункте гипотезы, то смысловые реакции на стимулы ОККЛЮЗИЯ и ПАССЕРОВАНИЕ количественно не увеличиваются. Исключение здесь составляют две реакции на последний из названных стимулов ( шкворчание ; вкусно ), которые не обладают существенной эмоциональной окраской, поэтому могут быть отнесены в разряд смысловых с натяжкой.
Только на стимул ВИВИСЕКЦИЯ были получены реакции, которые однозначно можно считать смысловыми: насилие ; живодёрство ; жалость ; преступление ; издевательство и т.п. Из таблицы видно, что большое количество таких реакций появляется именно на втором этапе эксперимента в обеих группах Ии., что даёт возможность утвердительно ответить на вопрос, содержащийся во втором пункте сформулированной гипотезы, хотя и с некоторыми поправками. В самом деле, на втором этапе эксперимента в обеих группах Ии. появляется «скачок» в количестве смысловых реакций, однако не на все три стимула, на которые давались ознакомительные тексты. Следовательно, новое знание изменяет не только количество, но и качество связей слова, проявляющееся в реакциях, однако при условии, что это знание переживается как новое. С другой стороны, появление качественно новых реакций («скачок») говорит о том, что полученное знание переживается именно как новое.
Кроме того, именно на втором этапе эксперимента появляется множество реакций, отражающих процесс встраивания новых знаний в уже имеющиеся. Так, на все стимулы с ознакомительными текстами появляются реакции, которые можно было бы назвать выводными, т.е. основанными на выводе из того, о чём говорилось в текстах. Например, ОККЛЮЗИЯ - слякоть ; метеорология ; климат ; метеоролог ; ВИВИСЕКЦИЯ - вынужденная мера ; опыты во благо ; необходимое науке изучение и т.п. Такие реакции характеризуются тем, что об этих явлениях не говорилось в текстах. Встраивание новых знаний в целостную систему старых отражается и в реакциях типа ОККЛЮЗИЯ - обжарка ; овощи ; витамины ; ПАССЕРОВАНИЕ - животное ; операция ; опыт.
Подобные примеры мы считаем не случайной погрешностью, а закономерной тенденцией, интерпретация которой даётся в другой публикации (см.: [4]).
Возвращаясь к цели исследования, скажем, что эмоциональнооценочный компонент нового фрагмента образа мира наиболее рельефно проявляется тогда, когда слово, связанное с этим фрагментом, фиксирует жизненные смыслы человека. Это не означает, что в случае, когда смысловое переживание слова не наблюдается в эмпирическом материале, оно отсутствует вообще. Формальные реакции говорят о том, что сознание человека в любом случае пытается найти «зацепки», средства осмысления слова, его вращивания в образ мира с неотъемлемым для последнего личностным смыслом. Познавательная деятельность, даже с «нулевым» результатом, имеет определение её жизненной роли не только в качестве завершающего звена, но и в качестве конституирующей основы.
Итак, положенная в основу исследования гипотеза в целом подтверждается, но с оговорками, которые обусловлены тем, что отсутствие в эмпирии реакций, связанных со стимулами теми или иными связями, ещё не означает полного отсутствия таких связей.
Можно, разумеется, сказать, что всё это лишь погрешности, на которые не нужно обращать внимания. Согласно таблице, отношение смысловых реакций к общему числу во всём эксперименте равно 1,683%. Если рассматривать случаи, когда реакции даются на слова с известным значением (т.е. суммировать реакции на стимулы ВИВИСЕКЦИЯ, ПАССЕРОВАНИЕ, ОККЛЮЗИЯ, данные обеими группами Ии. на втором этапе), то их число так же невелико -4,033% (29 из 719). Мы склонны считать эти проценты существенными (особенно второй из них), поскольку они означают, что существуют слова, значение которых знакомо многим людям, и каждая двадцать пятая реакция на которые потенциально содержит в себе стойкий эмоционально-оценочный компонент. Отсюда следует, что значение такого слова содержит смысловой и личностный компонент, который с достаточной регулярностью проявляется в речевой деятельности, особенно если условия последней благоприятствуют ему. И теория ментального лексикона, объясняющая закономерности его функционирования (в том числе изменения, генезиса), не может не находить объяснение подобным случаям.
В этой связи считаем важным остановиться подробнее на наличии эмоционально окрашенных реакций на стимул ВИВИСЕКЦИЯ и отсутствии таковых на стимулы ПАССЕРОВАНИЕ и особенно ОККЛЮЗИЯ. Здесь нам видится несколько парадоксальная ситуация: люди более бурно реагируют на то явление, свидетелем которого они никогда не были и которое им никакого вреда не наносит, нежели на то явление, с которым сталкиваются периодически (как минимум раз в год) и от которого получают неприятные эмоции. В отечественной психолингвистике существует тенденция разграничивать значение и смысл слова несколько упрощённо, считая, что личностный смысл - это такой компонент значения, который актуализируется здесь и сейчас. Мы не будем подробно останавливаться на том, что такие заявления делаются нередко со ссылками на работы А.Н. Леонтьева и А.А. Залевской и несколько превратно интерпретируют идеи обоих учёных. Личностный смысл - это не обязательно «для меня здесь и сейчас». Точнее, личностный смысл - это, конечно,
«для меня», но далеко не всегда «здесь и сейчас». И результаты описанного выше эксперимента являются тому подтверждением.
Следует в этой связи учитывать, что не существует отдельных смыслов, они всегда есть часть целой системы – континуума постоянно функционирующих в сознании явлений.
«В наиболее общем определении смысловые структуры являются превращёнными формами жизненных отношений субъекта . Жизненные смыслы и стоящие за ними более или менее сложные системы действительных жизненных отношений субъекта даны его сознанию и включены в его деятельность в превращённой форме смысловых структур, которые в совокупности образуют систему смысловой регуляции жизнедеятельности субъекта» [2: 126].
Д.А. Леонтьев различает шесть теснейшим образом связанных и подчас трудноразличимых разновидностей смысловых структур, среди которых особое место занимают личностные ценности [цит. раб.: 127–129, 167–251]. Эти последние (хотя не только они) отличаются от собственно личностного смысла тем, что обладают трансситуативным и наддеятельностным характером, в то время как личностные смыслы возникают и функционируют в рамках отдельной деятельности. Личностные ценности не ограничены конкретной деятельностью и конкретной ситуацией, они соотносятся со всей жизнедеятельностью человека и обладают высокой степенью стабильности [цит. раб.: 225]. Проявляющийся в реакциях эмоциональный компонент на стимул ВИВИСЕКЦИЯ, надо полагать, относится именно к этой разновидности смысловых структур.
Д.А. Леонтьев также отмечает: «Если психика является регулятором деятельности, то сознание есть регулятор бытия» [цит. раб.: 138]. Эмоциональные реакции на стимул ВИВИСЕКЦИЯ относятся не столько к деятельности, сколько к бытию, не к конкретной эмоции и её значимости для человека в конкретной ситуации, а к его жизни в целом.
Всё это делает ассоциативный эксперимент перспективным методом изучения личностных ценностей, характерных для представителей той или иной социальной группы (а в пределе абстрагирования от характеристик группы – для лингвокультуры) и для таких слов, словарное определение которых обычно не выявляет эмоционально-ценностного компонента (например, аборт ).
Если говорить о том, как изменение знаний человек изменяет связи слова в ментальном лексиконе, можно основную закономерность выразить следующим образом. Новое знание изменяет как количество, так и качество внутренних связей ментального лексикона при условии, что это знание п ер еживае тся как новое и личностно значимое, причём личностный, смысловой компонент знания проявляется в эмоционально-оценочных реакциях на данное слово тем сильнее, чем прочнее значение данного слова и знания, им фиксируемые, связаны с личностными ценностями и другими устойчивыми, трансситуативными смысловыми структурами.
Список литературы Изменение значения и смысла слова как отражение новых знаний человека
- Залевская А.А. Психолингвистические исследования. Слово. Текст: Избранные труды. М.: Гнозис, 2005. 543 с.
- Леонтьев Д.А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности. 3-е изд., доп. М.: Смысл, 2007. 511 с.
- Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. СПб.: Питер, 2012. 288 с.
- Яковлев А.А. К вопросу о физиологическом базисе семантических исследований//Слово и текст: психолингвистический подход. Вып. 17. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2017 (в печати).