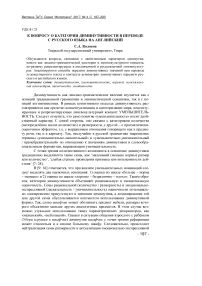К вопросу о категории диминутивности в переводе с русского языка на английский
Автор: Колосов Сергей Александрович
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Проблемы перевода
Статья в выпуске: 4, 2017 года.
Бесплатный доступ
Обсуждаются вопросы, связанные с двойственным характером диминутивновсти как лексико-грамматической категории и лингвокультурного концепта, по-разному репрезентируемых в англоязычной и русскоязычной лингвокультурах. Анализируются способы передачи диминутивных значений при переводе художественного текста в контексте асимметрии диминутивных парадигм русского и английского языков.
Диминутивность, уменьшительность, перевод, межъязыковая асимметрия, оценочность, эмотивность
Короткий адрес: https://sciup.org/146278354
IDR: 146278354 | УДК: 81`25
Текст научной статьи К вопросу о категории диминутивности в переводе с русского языка на английский
Диминутивность как лексико-грамматическое явление изучается как с позиций традиционной грамматики и лингвистической семантики, так и с позиций когнитивистики. В рамках когнитивного подхода диминутивность рассматривается как средство концептуализации и категоризации мира, конституирующее и репрезентирующее лингвокультурный концепт УМЕНЬШИТЕЛЬНОСТЬ. Следует отметить, что само понятие «уменьшительность» носит двойственный характер. С одной стороны, оно связано с категориями количества (неопределённо малое количество) и размерности, с другой - с прагматически-оценочным эффектом, т.е. с выражением отношения говорящего как к предмету речи, так и к адресату. Так, неслучайно в русской грамматике закрепились термины «уменьшительно-ласкательный» и «уменьшительно-уничижительный / пренебрежительный» по отношению к значениям диминутивов и словообразовательным формантам, выражающим уменьшительность.
С точки зрения количественного компонента в семантике диминутивов традиционно выделяются такие семы, как ‘маленький (меньше нормы) размер или количество’, ‘слабая степень проявления признака или интенсивности действия’ [7: 28].
В [9: 16] отмечается, что при анализе уменьшительных номинаций следует выделять два оценочных основания: 1) оценка по шкале «больше - норма - меньше» и 2) оценка по шкале «хорошо - безразлично - плохо». Таким образом, категория диминутивности объединяет рациональную и эмоциональную оценочность. Семы рациональной (количество / размерность) и эмоциональноэкспрессивной (ласкательность / уничижительность) оценочности потенциально одновременно присутствуют в значении диминутива, а доминирование той или другой семы обусловливается контекстом использования диминутивной формы. Так, слово шкафчик может обозначать предмет мебели, размеры которого объективно меньше других аналогичных предметов. В этом случае возможно узуальное использование таких параметрических дескрипторов, как «маленький», «небольшой». Однако в ситуации общения взрослого с ребёнком (Убери игрушки в шкафчик) диминутив шкафчик с точки зрения референции может относиться и к вполне большому шкафу. Следовательно, происходит нейтрализация семы размерности и актуализация эмоционально-экспрессивной оценочности. Аналогичным образом в предложении Садитесь за наш столик использование диминутива обусловлено не рациональной оценкой размеров стола, а прагматической установкой на создание положительной эмоциональной атмосферы, расположение к себе собеседника, установление доверительных отношений и т.д.
Диминутивность также рассматривается как аксиологическая категория, сочетающая в себе два оценочных полюса - мелиоративный и пейоративный [8: 85]. В то же время отмечается такое свойство диминутивов, как энан-тиосемичность, т.е. способность выражать как положительную, так и отрицательную оценочность [6; 10: 135], ср.: Денёк выдался солнечный и Ну и денёк выдался, кошмар просто. Энантиосемичным может быть как сам диминутив, так и суффикс.
Диминутивность являет собой важный фрагмент языковой картины мира и (этно)лингвокультурного кода, а диминутивные номинации могут актуализировать культурно-значимую информацию: «“Готовность” одних близкородственных языков образовывать диминутивы и “сопротивление” других наводит на мысль об определённой “вписанности” данного явления в картину мира и его связями с этническими стереотипами, национальным характером, этнической культурой и этнической психологией» [8: 86]. Как отмечает А. Вежбицкая, «русский язык исключительно богат уменьшительными формами, кажется, что они встречаются в речи на каждом шагу» [1: 50]. В этом же ключе характеризует диминутивость в русской речи С.Г. Тер-Минасова: «Носитель английского языка <…> не может даже отдалённо вообразить себе всё то огромное суффиксальное богатство русского языка, которое предоставляет его носителям возможность выразить столь же огромное богатство тончайших нюансов любящей души <...> Уменьшительно-ласкательные суффиксы с одинаковым энтузиазмом присоединяются русскими людьми как к одушевлённым, так и неодушевлённым предметам» [11: 153]. Сравнительно-сопоставительные исследования показывают, что «славянский и испанский / латино-испанский этнопсихотипы в проекции диминутивности характеризуются как сильно и даже гиперэмоциональные (а также обнаруживают специфические типы “диминутивной” ментальности), в отличие, например, от умеренно-смешанного немецкого, или австралийского, характеризующегося людической ментальностью» [8: 87]. А.С. Самигуллина в ходе исследования категории уменьшительности с позиций лингвокогнитивного подхода приходит к выводу, что «в английском языке ядро категории уменьшительности образуют специальные средства выражения неопределённо малого количества (лексикофразеологические средства), а эмоционально-оценочные форманты (словообразовательные средства) сдвигаются на категориальную периферию. В русском языке прослеживается обратная тенденция, тогда как для немецкого языка одинаковое значение имеет и “объективная” и “субъективная” уменьшительность» [9: 15].
С точки зрения прагматического воздействия русские диминутивы часто выступают как актуализаторы категории вежливости в императивах типа Налей мне чайку. Употребление диминутивной формы существительного в данном случае смягчает выражение требования. Императивность высказывания ещё больше смягчится при использовании диминутивной формы глагола с - 198 - частицей, ср.: Налей-ка мне чайку. Заметим, однако, что иллокутивный эффект этой фразы во многом будет зависеть от информационного оформления высказывания.
С целью эффективного взаимодействия через активизацию имплицитного смысла смягчения просьбы диминутивные формы часто используются в сфере обслуживания [10: 110–117]. Известно, что многие носители английского языка, изучающие русский язык, отмечают, что в русских императивных конструкциях, особенно в сфере бытового общения, значительно реже используется слово «пожалуйста» по сравнению с его эквивалентом please , который в англоязычной лингвокультуре является ключевым словом вежливости. Однако проблема здесь не в том, что русские люди не столь вежливые, а в том, что грамматические формы вежливости, привычные для русской лингвокультуры (отрицательные сослагательные конструкции с частицей «бы», модальные глаголы, диминутивные синтетические и аналитические формы), в английском языке встречаются гораздо реже или не используются вовсе (см. подробный анализ этого феномена в [2: 96–100]). Как особые маркеры речевого поведения диминутивы характерны для языка детей, а также специального речевого регистра (так называемого «языка нянь»), который взрослые используют в дето-центрических ситуациях [7: 29; 10: 103], и женского языка [5]. Важнейшую роль с точки зрения прагматического воздействия диминутивы играют и в сфере антропонимической номинации и обращений. При этом помимо ярко выраженной эмоциональной и экспрессивно-оценочной составляющей в данном случае особо проявляется национально-культурная специфика и маркированность данных единиц.
Эмоционально-чувственный компонент в значении диминутивных наименований непосредственно связан с их экспрессивно-стилистическим потенциалом. Диминутивы являются отличительным признаком разговорной речи. Однако они также находят активное применение в рекламном дискурсе, гастрономическом дискурсе. Так, в русском языке диминутивные формы очень часто используются в названиях блюд в кулинарных рецептах и меню заведений общественного питания: например, селёдочка закусочная, курочка по-мексикански . В работе [6] указывается на концептуально новое явление в сфере реализации категории диминутивности, нашедшей применение в Интернет-дискурсе - так называемый «мимишный» / «няшный» / «кавайный» язык пользователей социальных сетей, который характеризуется высокой частотностью диминутивных форм ( печалька, очаровашка, вкусняшка, расставашка, спатеньки, рисоватеньки и т.д.).
Диминутивы выполняют функцию аккумуляции и трансляции эмоций. При этом диминутив обладает потенциалом репрезентирования огромной палитры эмоциональных концептов, включая умиление, утешение, любовь, нежность, восторг, жалость, недовольство, пренебрежение, презрение, иронию, сарказм. Данный факт во многом обусловлен многозначностью диминутивных суффиксов [3: 15].
Репертуар лингвистических средств экспликации диминутивности разнится в языках как в количественном, так и в функциональном отношении. Так, русский язык особо богат средствами выражения категории диминутивно-сти на морфологическом уровне. В нём выделяют 22 уменьшительно ласкательных суффикса, 14 из которых относятся к продуктивному типу [7: 27]. При этом особенностью русского языка является то, что диминутивную форму можно образовать от очень широкого спектра производящих основ: лексем с конкретно-предметным значением, со значением вещественности, времени, лица, процесса, признака, состояния [3: 16]. Не менее богатыми словообразовательными возможностями обладают и прилагательные. Кроме того, диминутивы с помощью аффиксации могут образовывать даже наречия и глаголы (суффикс – еньк, частица –ка) [7: 27; 10: 68]. В то же время в английском языке, который является аналитическим, на морфологическом уровне димину-тивность представлена значительно беднее. К тому же, как было отмечено выше, ядро концепта «диминутивность» в английском языке в первую очередь соотносится с семами количественности или размерности, а «языковое проявление пассивного признака <…> ограничивается в большей мере сферой одушевлённых имён существительных, где уменьшительность принимает участие в категоризации человеческих отношений на прагматическом уровне» [9: 14].
В художественном тексте диминутивность является важным смыслообразующим средством. Немаловажную роль диминутивы играют в создании речевого портрета персонажа. Будучи значимым стилистически маркированным средством, диминутивность требует особого внимания переводчика и тщательного выбора эквивалента для воспроизводства прагматического и экспрессивного эффекта в тексте перевода. Анализ способов передачи димину-тивности в переводе показывает, что недостаточная выраженность категории диминутивности в английском языке на морфологическом уровне заставляет переводчиков обращаться к приёму компенсации с использованием лексических (добавление прилагательных со значением малой размерности или незначительности, фразеологические средства, коллоквиализмы) и синтаксических (разделительные вопросы, модальные конструкции) средств, обладающих аналогичным эмотивным, экспрессивным и оценочным значениями. Также нередко переводчик на английский язык делает выбор в пользу нейтрализации ди-минутивности в переводе. Предполагаю, что такое переводческое решение может быть обусловлено следующими причинами: 1) переводчик не осознаёт актуализацию данной грамматической формы в контексте или 2) считает её, исходя из специфики категоризации концепта «уменьшительность», а также языковой, стилистической и узуальной норм в принимающей культуре, необязательным для воспроизведения элементом содержания / содержательности оригинала.
Для иллюстрации некоторых изложенных выше положений рассмотрим ряд примеров. В следующем фрагменте описывается внешность персонажа романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» (лримеры из произведения М. Булгакова и перевода Р. Пивера и Л. Волохонской извлечены из параллельного подкорпуса Национального корпуса русского языка ). Коровьев (Фагот) - член свиты Воланда, который является Берлиозу из майского зноя в виде галлюцинации.
На маленькой головке жокейский картузик , клетчатый кургузый воздушный же пиджачок … Гражданин ростом в сажень, но в плечах узок, худ неимоверно, и физиономия, прошу заметить, глумливая .
Сравним переводы этого фрагмента на английский язык, выполненные М. Гленни (1) и Р. Пивером и Л. Волохонской (2).
-
(1) On his small head was a jockey-cap and he wore a short check bum-freezer made of air. The man was seven feet tall but narrow in the shoulders, incredibly thin and with a face made for derision. [12]
-
(2) A peaked jockey's cap on his little head, a short checkered jacket also made of air… A citizen seven feet tall, but narrow in the shoulders, unbelievably thin, and, kindly note, with a jeering physiognomy.
Выделенные диминутивные формы, с одной стороны, подчёркивают необычайную щуплость и всю несуразность внешнего облика персонажа, а с другой, создают пейоративную коннотацию, усиливающуюся в следующем предложении благодаря характеристике глумливая физиономия . Два из трёх диминутивных существительных оригинала – головка и пиджачок – переданы в обоих переводах с помощью лексической компенсации (именное сочетание с размерным прилагательным). Интересен, тем не менее, выбор соответствующего атрибута. У Гленни – small, у Пивера и Волохонской – little. Оба прилагательных в английском языке являются базовыми параметрическими дескрипторами, выражающими идею малого размера. Однако, как свидетельствуют комментарии в Longman Dictionary of English and Culture и Cambridge Dictionary Online, слово little в отличие от его синонима small помимо количественного значения часто предполагает и определённое (положительное!) эмоциональное отношение к объекту. В этом отношении little вряд ли можно считать удачным вариантом перевода, хотя в целом перевод Пивера-Волохонской более точно передаёт стилистику оригинала. В случае с «маленькой головкой» мы имеем дело с удвоением диминутивности, и с точки зрения рациональной оценочности эпитет «маленький» представляется избыточным. Но именно удвоенная диминутивность позволяет русскоязычному читателю почувствовать всю пренебрежительность и брезгливость, с которой автор описывает Коровьева. Пейоративная коннотация усиливается по ходу повествования, когда Фагот является Берлиозу в плотском обличии. И этот эффект создаётся опять же за счёт диминутивов вкупе с другими стилистическими средствами (сравнение, эпитеты):
Только сейчас он был уже не воздушный, а обыкновенный, плотский, и в начинающихся сумерках Берлиоз отчётливо разглядел, что усишки у него, как куриные перья, глазки маленькие , иронические и полупьяные, а брючки клетчатые, подтянутые настолько, что видны грязные белые носки.
-
(1) This time, however, he was not made of air but of flesh and blood. In the early twilight Berlioz could clearly distinguish his feathery little moustache , his little eyes , mocking and half drunk, his check trousers pulled up so tight that his dirty white socks were showing. [12]
-
(2) Only now he was no longer made of air, but ordinary, fleshly, and Berlioz clearly distinguished in the beginning twilight that he had a little moustache like chicken feathers, tiny eyes, ironic and half drunk, and checkered trousers pulled up so high that his dirty white socks showed.
Очевидно, что переводчики по-разному и с разной степенью успешности пытаются передать значение диминутивных форм. Основные способы передачи диминутивности в проанализированных примерах – лексическая ком- 201 - пенсация и нейтрализация, которые недостаточно передают всю экспрессивность и смысловой потенциал формы оригинала. Как следствие, эмотивный и оценочный смыслы оказываются частично утраченными в переводе.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что асимметрия диминутивных парадигм в контактирующих языках может серьёзным образом осложнить процесс перевода с точки зрения эквивалентности и адекватности транслируемого смысла.
Список литературы К вопросу о категории диминутивности в переводе с русского языка на английский
- Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М.: Русские словари, 1996. 416 с.
- Виссон Л. Русские проблемы в английской речи. Слова и фразы в контексте двух культур. Изд. 2-е, испр. М.: Р. Валент, 2003. 192 с.
- Воронина Л. П. Семантика и прагматика деминутивных суффиксов в русском языке//Вестник Томского государственного университета. 2012. № 359. С. 15-17.
- Исакова С.Ш. Средства выражения категории диминутивности в английском и русском языках: дис. … канд. филол. наук. 190 с. /URL: http://www.dslib.net/sravnit-jazykoved/sredstva-vyrazhenija-kategorii-diminutivnosti-v-anglijskom-i-russkom-jazykah.html#1638872 (дата обращения: 05.10.2017).
- Кавинкина И.Н. Проявление гендера в речевом поведении носителей русского языка: монография. Гродно: Гродненский гос. ун-т им. Я. Купалы, 2006 /URL: http://ebooks.grsu.by/kavinkina_gender/index.htm (дата обращения: 10.10.2017).
- Калашникова А.А., Калашников И.А. Диминутив как инструмент прагматикона в дискурсе социальных сетей//Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2017. №7(73): в 3-х ч. Ч. 2. С. 102-104.
- Некрасова И.М. Категория диминутивности в русском и английском языках//Проблемы романо-германской филологии, педагогики и методики преподавания иностранных языков. 2010. №8. С. 26-31.
- Резниченко Л.Ю. Диминутивность как средство моделирования лингвокультурной и лингвопсихологической картины мира//Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2009. №5. С. 85-92.
- Самигуллина А.С. Уменьшительность: лингвокогнитивный подход (на материале английского, немецкого и русского языков): автореф. дис. … канд. филол. наук. Уфа, 2003. 23 с.
- Слабко Ю.В. Общие и отличительные черты функционирования диминутивности в русском и английском языках: дис. …. канд. филол. наук. Челябинск, 2016. 191 с.
- Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М.: Слово/Slovo, 2000. 259 с.
- Bulgakov M. The Master and Margarita. London: Collins and Harvill Press, 1967 /URL: http://www.masterandmargarita.eu/estore/pdf/eben001_ mastermargarita_glenny.pdf (дата обращения 10.10.2017).