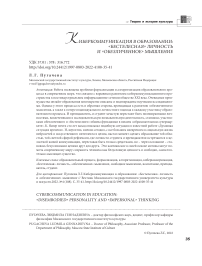Киберкоммуникация в образовании: "бестелесная" личность
Автор: Пугачева Людмила Геннадиевна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 4 (108), 2022 года.
Бесплатный доступ
Работа посвящена проблеме формализации и алгоритмизации образовательного процесса в современном мире, что связано с взрывным развитием киберкоммуникационного пространства в постиндустриальном информационносетевом обществе ХХI века. Очевидные преимущества онлайн образования многократно описаны и подтверждены научными исследованиями. Однако у этого процесса есть и обратная сторона, приводящая к развитию «обезличенного» мышления, а также к потере индивидуального личностного подхода к каждому участнику образовательного процесса. И преподаватель, и студент зачастую перестают быть полноправными личностями, вовлеченными в исследовательскую познавательную деятельность, становясь участниками обезличенного и «бестелесного» обмена функциями в некоем «образовательном супермаркете». К. Яспер почти сто лет назад описывал подобную ситуацию в известной работе «Духовная ситуация времени». И, вероятно, именно сегодня, с все большим внедрением в социальную жизнь нейросетей и искусственного интеллекта в целом, настал момент сделать образование той областью, той светлой сферой рефлексии, где личности студента и преподавателя встречаются в целостной живой коммуникации, переставая быть только средствами, но через осознание становясь безусловными целями друг для друга. Эти кантианские в своей основе мотивы могут помочь современному миру сохранить человека как безусловную ценность и свободно, самостоятельно мыслящее существо.
Образовательный процесс, формализация, алгоритмизация
Короткий адрес: https://sciup.org/144162481
IDR: 144162481 | УДК: 37.01 | DOI: 10.24412/1997-0803-2022-4108-35-41
Текст научной статьи Киберкоммуникация в образовании: "бестелесная" личность
Преимущества образовательных онлайн-платформ, которые активно развивают практически все популярные высшие учебные заведения мира, не требуют доказательств, они очевидны в современном обществе. Образование стало – как никогда прежде в истории человечества – массово доступным: учиться можно из любой точки мира; время суток, возраст, пол, состояние здоровья, политические и религиозные взгляды, культурноисторическая среда, социальные практики повседневности и много другое перестает иметь значение. Широкие возможности онлайн-образования обеспечивают небывалое ускорение социальных лифтов и вход в любые, соответствующие образовательному профилю, сообщества – без жесткой необходимости «телесного» переезда в другую страну или даже на другой континент. Отдельная личность получает возможность покорить практически любую социальную и научную вершину, войти в любую систему знания и приобрести любую профессию, по сути – получает мощнейшие инструменты для выбора жизненного пути и изменения судьбы. Мир культуры, мир науки, область смыслов, накопленная человечеством за тысячелетия своего развития, оказываются на расстоянии руки, лежащей на клавиатуре. И это не может не вдохновлять.
Но взрывная парадигмальная трансформация образовательных технологий, происходящая в основном в области формы, порождает стандартизированное когнитивное цифровое пространство, а с ним и соответствующие проблемы. Именно их осмыслению (в первую очередь, в области преподавания гуманитарных наук, таких, как философия, социология, политология, религиоведение, культурология, литература, история) посвящена данная работа.
Первая очевидная проблема: в цифровом стандартизированном когнитивном про- странстве отдельные уникальные личности практически не проявлены. И это касается и студентов, и преподавателей. Онлайн-лекции, онлайн-семинары и конференции, экзамены в форме онлайн-тестирования представляют собой жесткий по таймингу и ограниченный по каналам коммуникации (видео + звук) формат, который максимально нивелирует личностные особенности участников. Однако образовательные процессы идут, учебная информация распространяется, знания воспроизводятся и проверяются. Но при этом в киберпространстве действует уже не личность с ее уникальными и неповторимыми поведенческими и мыслительными «неправильностями» и «сложностями», а совсем иное – бодрый усредненный замещающий знак, символ: «профиль пользователя», некая укороченная благополучная «презентация» в сети – упрощенный вариант живого телесного человека1. И собрание таких облегченных «профилей» и «презентаций», ведомое предельно алгоритмизированным учебным процессом, работает в большой степени не на открытие нового и уникального, а на воспроизведение уже известного. В этой ситуации студенческие индивидуальности волей-неволей, в силу особенностей электронной формы обучения, превращаются в одинаковые клеточки некого коллективного гипермозга, ориентированного в основном не на процесс, а на результат – формальное присутствие на онлайн-мероприятии, положительную оценку на зачете и экзамене.
Параметры этого явления массовой формализации отношения к обучению пока еще практически не изучены и ждут своего исследователя. Но уже сегодня необходимо выделить тенденцию, которую можно на-
1 Интересный подход к киберкоммуникации развивает в своих исследованиях к. ф. н. Е. В. Батаева. Например, см: Батаева Е. В. Социальная феноменология киберкоммуникации // Социология: теория, методы, маркетинг. 2011. N1, а также другие работы автора. В частности, ею исследуется коммуникация «усеченных» личностей, прячущихся под «никнеймами» и не выходящими к «живой» коммуникации в реальном мире.
звать «ритуализацией» образовательной деятельности. Во-первых, участники процесса выступают не как целостные мыслящие индивидуальности, а как упрощенные образы на экране – «маски», для которых присутствие в онлайн-процессе ограничивается подключением к конференции. Часто, присоединившись к онлайн-лекции без видео и звука, студент продолжает заниматься посторонними делами, при этом у него формируется ложное чувство удовлетворения, так как формально к нему не может быть претензий со стороны учебного заведения. Тем самым искажается сама суть учебного процесса, и у молодых людей закладывается бессознательная убежденность в могуществе и преобладании формальных принципов над реальными действиями во «взрослом» мире социальной коммуникации: имитация, симулякр образовательного процесса вытесняет реальное обучение, превращает его в «ритуал». У этого явления могут быть далеко идущие и совсем не невинные морально-этические и общесоциальные последствия. Нетрудно представить, что будет, если вместо реального вклада многие или все члены сообщества начнут имитировать свою рабочую деятельность, а возможно, и отношения друг с другом.
Второй важный момент. Электронная форма склоняет учебный процесс к формализации познания на уровне индивида. И мы получаем механическое «воспроизведение» вместо осмысленного понимания. Первое и, возможно, основное: форма контроля знания перестает быть личной и индивидуальной – в силу массового характера онлайн обучения, отсутствия привязки ко времени и месту экзамена, а зачастую, и ко времени и месту лекции, существующей в записи. В любое время суток программа откроет вам доступ к лекции, на которой студенты не смогут задать вопросы лектору, а потом и к экзамену, имеющему, быть может, сложную и изощренную, но все-таки в смысловом плане ограниченную стандартную форму. Студент, готовящийся к такому онлайн-тестированию, напоминает олимпийского спортсмена, ко- торый тренируется с целью достигнуть уже на старте хорошо известной цели и который ни в коем случае не должен сбиться с проторенного кем-то до него пути в поисках неведомых сокровищ знания или гениальных озарений.
Но наращивание информационной алгоритмизированной «мускулатуры» – это совсем не то, что отличает человека от искусственного интеллекта. Более того, что касается стандартизированных «знаний», человеческий интеллект уже давно отстал от искусственного. Это не значит, что школьники не должны учить таблицу умножения, а историки – даты великих событий. Основная ценность человеческого мышления – то есть, мышления в собственном смысле слова – как раз в новизне и непредсказуемости, то есть в том, чего компьютерная программа оценить не может, в отличие от живого лектора и экзаменатора – со всеми его личностными проблемами и несовершенствами субъективного взгляда на обучающий процесс.
В этом смысле хочется напомнить хорошо известную древнюю мысль об «отсутствии королевской дороги к познанию» вообще и в науке – в целом. Ее приписывают Евклиду, так ответившему основателю царственной династии Птолемеев на просьбу о более легком изучении математики. Подобным образом считали и Чарльз Пирс, один из основоположников прагматизма, и Карл Маркс, который в предисловии к Капиталу писал: «В науке нет широкой столбовой дороги, и только тот может достигнуть ее сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по ее каменистым тропам». [3, С. 25]
Однако электронная (заранее записанная, готовая) форма трансляции и, особенно, проверки знания (тестирование) максимально нацелены на исключение подлинного мышления – с его свежестью, новизной идей, непредсказуемостью поворотов смысла и спонтанной радостью, которую прекрасно описывал М. К. Мамардашвили: «Что это за состояние радости, которое к тому же еще может быть и критерием истины? Можно сказать, что у мышления есть своя эстетика, что мысль безусловно связана с радостью, иногда с единственной радостью человека. Эта радость относится и к мысли, о которой я хочу беседовать с вами, и к мысли, в связи с которой вообще возникает вопрос: «что это значит?», «что это за состояние у человека и зачем оно вообще?». Иногда или чаще всего нам ничего не остается, кроме того, чтобы получить светлую радость мысли. … Есть одна какая-то точка, в которой мы, вопреки всем силам природы или общества, можем хотя бы думать честно. И я уверен, что каждый из вас, независимо от того, удавалось ли вам быть не просто в состоянии честности, а в состоянии честной мысли, знает особую какую-то вещь, которую человек испытывает, когда загорается неизвестно откуда пришедшая искра, которую можно назвать Божьей искрой» [2].
На «живой» лекции, семинаре, экзамене преподаватель и студент вовлечены в реальный коммуникативный процесс с непредсказуемыми вопросами и ответами. Реальная коммуникация – это всегда творческий акт, поскольку личностные особенности студента подталкивают преподавателя к формулированию вопросов, которые позволяют раскрыть новые смыслы, породить неожиданные повороты темы, выйти к чему-то непредсказуемому для обоих участников процесса. Потому что настоящее мышление не знает иерархических границ (профессор/студент), и в живом обсуждении раскрывается, говоря языком К. Ясперса, подлинная экзистенция.
Интересно, что уже почти сто лет назад, в 1931 году, К. Ясперс в своей знаменитой работе «Духовная ситуация времени», предупреждал об опасности преобладания «формы» над «содержанием» в человеческих отношениях – в труде, образовании и социальной жизни в целом: «Все существующее направлено в сторону управляемости и правильного устройства. Безотказность техники создает ловкость в обращении со всеми вещами; легкость сообщения нормализует знание, гигиену и комфорт, схематизирует то, что связано в существовании с уходом за те- лом и с эротикой. В повседневном поведении на первый план выступает соответствие правилам. Желание поступать как все, не выделяться создает поглощающую все типизацию, напоминающую на другом уровне типизацию самых примитивных времен. Индивид распадается на функции. Быть означает быть в деле; там, где ощущалась бы личность, деловитость была бы нарушена» [4]. (Выделено мною. – Л. Г. Пугачева).
Говоря современным языком применительно к существующему ныне образовательному процессу, власть над конкретными личностями, живущими в историческом измерении своего времени и культуры, захватила система организации учебного процесса – электронная система расписания, электронной отчетности и учета человеко-часов, отведенных чисто формально на изучение конкретных учебных дисциплин. Учебный процесс получает социально санкционированное «бытие» (конкретные преподаватели – заработную плату, а студенты – оценки и дипломы) только в том случае, если вся бумажная и теперь, в ХХI веке, электронная система контроля находится «в порядке». В некотором смысле, не она работает на человека, а человек работает на нее. Слова К. Ясперса как никогда обретают актуальность именно сегодня: «Господство аппарата. Превращая отдельных людей в функции, огромный аппарат обеспечения существования изымает их из субстанциального содержания жизни, которое прежде в качестве традиции влияло на людей. Часто говорили: людей пересыпают, как песок. Систему образует аппарат, в котором людей переставляют по своему желанию с одного места на другое, а не историческая субстанция, которую они заполняют своим индивидуальным бытием. Все большее число людей ведет это оторванное от целого существование. … Глубокая, существовавшая раньше истина – каждый да выполняет свою задачу на своем месте в сотворенном мире – становится обманчивым оборотом речи, цель которого успокоить человека, ощущающего леденящий ужас покинутости. Все, что че- ловек способен сделать, делается быстро. Ему дают задачи, но он лишен последовательности в своем существовании. Работа выполняется целесообразно, и с этим покончено» [4]. (Выделено мною. – Л. Г. Пугачева).
Старая система организации учебного процесса еще восьмидесятых – девяностых годов ХХ века ушла в прошлое. Такое обычное явление того времени, как спецсеминары на дому у профессора, теперь невозможно. Они проходили, как правило, с небольшим количеством профессионализирующихся студентов, могли длиться часами, поскольку были интересны и полезны обеим сторонам: поднимались живые научные вопросы, случались незабываемые дискуссии, и именно так закладывались фундаментальные знания. Это было реальное личностное общение – с чаем, печеньем, жизненными ситуациями, которые обязательно принимались во внимание. Это не был обмен функциями образовательного супермаркета «студент/преподаватель», а обучение в живом контакте личностей, открывающимися друг другу на уровне подлинной экзистенции, если использовать терминологию К. Ясперса. Казалось бы, какое отношение форма общения преподавателя и студента имеет к такой, достаточно сухой, дисциплине как «общее языкознание» или «латинский язык»? Однако, помимо содержания, студенты имели возможность перенять отношение, ощутить духовную значимость научных знаний и личную ответственность преподавателя за них, каждого, кто сделал этот образовательный выбор. Преподаватели учили предмету и общей ценностной установке, ответственности, долгу саморазвития, чувству научного товарищества и познавательного интереса к окружающему миру. Шло обучение предмету и, одновременно, воспитание интеллигентного человека, в том самом известном русском смысле слова.
Третье замечание. Лекции, семинары и экзамены, проводимые без телесного присутствия участников процесса в аудитории, с большим затруднением могут выполнять две важные задачи: индивидуального под- хода к студенту со стороны преподавателя и создания полноценной диалоговой среды для обучающихся.
Индивидуальный подход означает, прежде всего, реализацию главной смысловой роли преподавателя: построить некий мост, стать тем самым объединяющим звеном между научным знанием, воплощенным в тексте учебника, книге или научной проблеме, и студентом. Преподаватель, видя студентов в их жизненной, исторически конкретной ситуации, умеет найти общие точки, привести в соприкосновение опыт отдельных личностей и смысл великих научных идей, учитывая когнитивные особенности и образовательный уровень этих личностей. В этом и состоит, по сути, искусство преподавателя.
Но, чтобы это произошло, преподаватель должен видеть живые лица и глаза, устремленные на него, замечать многообразные телесные и, возможно, звуковые реакции, чтобы иметь в ситуации учебного взаимодействия постоянную невербальную обратную связь с аудиторией в режиме реального времени в общем реальном пространстве. Это дает возможность ориентироваться в том, каким путем «корабль поплывет» к цели обучения, постоянно корректировать свой маршрут, чтобы все участники процесса понимали смысл происходящего на лекции или семинаре. Онлайн-обучение имеет дело с человеком «без тела». И это, конечно, общекультурная и даже общецивилизационная проблема, которая в образовании сегодня приобретает столь острую форму. Как пишет исследователь Кутырев: «С развитием хозяйства и познания живая картина мира изживалась, превращалась в метафору. … Отказ от вещей и субстратов, от онтологии и замена их языком, текстом и структурой есть, в сущности, начало трансформации предметной модели мира в информационную. … Становление постиндустриальной информационной цивилизации означает, что она стала настоящим, существуя рядом, вместе, а потом проникая внутрь вещно-событийного мира. Резонно ожидать, что информационная модель мира должна вести к умалению предметности, особенно ее живых форм» [1].
Полноценная диалоговая среда также предполагает, что участники процесса (например, на семинаре) видят, слышат и чувствуют друг друга в непосредственной телесной близости. Это происходит одновременно и сразу для многих личностей – роскошь повернуть голову и увидеть другого рядом, почувствовать его нетерпение и желание ответить на вопрос или уловить скуку непонимания – все это нормальные условия развития познающего сознания. Кроме того, среди обучающихся есть разные психологические типы – «болтуны» и «молчуны», «мыслители» и «деятели» – все это живое бесценное многообразие нивелируется экраном компьютера и, фактически, тормозит развитие студентов.
Обобщим сказанное выше. Вероятно, современный образовательный процесс подошел к той черте, когда необходимо глубокое осознание и пересмотр отношения его «формы» и «содержания», а также того, к каким результатам во многом ведет его современная организация.
Очевидно, что общекультурная ситуации среди прочего имеет тенденцию быть направленной к все большей формализации, алгоритмизации и к все меньшему участию конкретных личностей с их личной ответственностью, свободой и выбором в социальном взаимодействии. В этом, конечно, огромную роль играют современные нейросети и бурное развитие искусственного интеллекта, а также внедрение его в социальную жизнь.
В этом смысле «человек», «человеческий фактор», «духовная природа личности», «нравственный выбор» – все это попадает под знак вопроса. Киберобразование «бестелесных» индивидов, и это сегодня уже очевидно, приводит к «обезличенному» мышлению. Логично, что именно поэтому образование, как сфера развития будущего, должно стать тем местом, где личности, конкретному живому человеку уделяется максимальное внимание. Переосмысление образовательных форм и технологий с учетом ценности личной связи
«преподаватель – студент» позволит создать альтернативу механистической, машинной по своей сути, организации современной жизни и вернет человека самому себе.
И завершить работу хочется замечанием К. Ясперса: «В области знания сегодняшняя ситуация характеризуется растущей доступ- ностью его формы, метода и часто содержания все большему числу людей. … Для того, как самобытию принимать в себя другое само-бытие, обобщенной ситуации не существует, необходима абсолютная историчность встречающихся, глубина их соприкосновения, верность и независимость их личной связи» [4].
Список литературы Киберкоммуникация в образовании: "бестелесная" личность
- Кутырев В. А. Человек без тела [Электронный ресурс]. // Философия постмодернизма. URL: https://litresp.ru/chitat/ru/%D0%9A/kutirev-vladimir-aleksandrovich/filosofiya-postmodernizma/4.
- Мамардашвили М.К. Беседы о мышлении [Электронный ресурс]. // Курс лекций, прочитанный в 1986-1967 гг. в Тбилисском университете. URL: https://omiliya.org/article/besedy-o-myshlenii-mk-mamardashvili.
- Маркс К. Предисловие к Французскому изданию // Капитал: критика политической экономии. Том I. Москва: Государственное издательство политической литературы. В 23-х томах.
- Ясперс К. Духовная ситуация времени [Электронный ресурс]. // URL: https://libking.ru/books/sci-/sci-philosophy/24506-7-karl-yaspers-duhovnaya-situatsiya-vremeni.html.