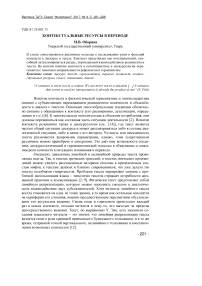Контекстуальные ресурсы в переводе
Автор: Оборина Марина Владимировна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Проблемы перевода
Статья в выпуске: 4, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье сопоставляются различные подходы к исследованию роли и функций контекста в дискурсе и тексте. Контекст представлен как потенциальный, способный актуализироваться ресурс, порождаемый взаимодействием реципиента и текста. Во многом понятие контекста в когнитивистике и дискурсологии пересекается с понятием направленности рефелексии в герменевтике.
Дискурс, текст, герменевтика, перевод, контекст, контекстуальные ресурсы, смысл, понимание, диалог
Короткий адрес: https://sciup.org/146278359
IDR: 146278359 | УДК: 81`25:801.73
Текст научной статьи Контекстуальные ресурсы в переводе
“ A sentence is never not in a context. We are never not in a situation […] A sentence that seems to need no interpretation is already the product of one” (S. Fish)
Понятие контекста в филологической герменевтике и лингводидактике связано с субъективным переживанием реципиентом понятности и объяснён-ности в диалоге с текстом. Основные текстообразующие тенденции обязательно связаны с обращением к контексту (его расширению, детализации, определению и т.п.) [6]. К текстам нельзя относиться как к объектам потребления, они должны переживаться как составная часть ситуации деятельности [2]. Понятие контекста релевантно также в дискурсологии (см.: [14]), где текст является частью общей ситуации дискурса и может рассматриваться либо в составе диалогической ситуации, либо в связи с его автором. Устность или письменность текста различаются жанровыми параметрами, однако, этим существенным различием можно пренебречь в синхронии. Это даёт нам возможность соединить дискурсологический и герменевтический подходы в объяснении и описании роли контекста в ситуациях понимания и перевода.
Очевидно, диалектика линейной и нелинейной природы текста проявлялась всегда. Так, в текстах греческих трагедий, в текстах эпических произведений можно увидеть расставленные авторами отсылки к прецедентным текстам мифов, к текстам далёких и близких современников, что уже делало эти тексты подобиями гипертекстов. Проблема текста неразрывно связана с проблемой использования языка – типология текстов отражает потребности жизненной практики и коммуникации [2; 9]. Физически текст представляет собой линейную репрезентацию, которую можно наполнить смыслом в диалогическом взаимодействии двух субъективностей. Хотя читатель линейного текста всегда становится на одну из точек зрения, в то время как остальные находятся на периферии его сознания, именно предшествующие перспективы обусловливают его актуальное видение. Смена темы и горизонтов происходит каждый раз в новом контексте, отсылая читателя к чему-то, что выходит за пределы непосредственного видения. Текст, по выражению У. Эко, есть механизм создания идеального читателя – это значит, что линейная репрезентация текста является своего рода границей приемлемого буквального толкования, и в то же время, отправной точкой вертикального, нелинейного толкования и восстановления возможных контекстов [12].
Для рассмотрения вопроса о контекстуальных ресурсах текста разграничение деятельности интерпретации и перевода является факультативным, поскольку предпереводческий анализ текста является обязательным интерпретационным этапом перевода. С точки зрения герменевтики текст – это вербализация знаковых, объективно-реальностных и субъективно-реальностных ситуаций в деятельности текстопостроения, соотносимых с тремя типами понимания (в филологической герменевтике) [2]. Так, знание значений элементарного языкового уровня выводит переводчика на уровень содержательнопропозициональный (где единицами понимания становятся не элементарные значения, а эпистемические единицы – пропозиции), и далее, на субъективно-реальностный уровень метаединиц, где усматриваемые категории имеют характер универсалий, переводимость которых не вызывает сомнений. Филологическая герменевтика оперирует понятием контекста в связи с деятельностным характером и субъективно-объективной природой понимания. Необходимость обращения к контексту вызвана фактом субъективного переживания сообщения в форме преодоления непонимания в трёх типах ситуаций, каждая из которых связана с наличием или восстановлением разных типов контекста.
В дискурсологии и когнитивистике понимание в диалогических ситуациях связывают с тем, что постепенно участники диалога начинают разделять единый контекстуальный ресурс. Горизонт ожидания в диалоге (а в традициях Бахтина диалогом следует признать и диалог с текстом) строится самим процессом коммуникации в форме последовательного разворачивания различных типов контекстов. Разворачивание контекстов происходит при рефлектировании познавательного опыта (основы когнитивного типа понимания), мнемиче-ского опыта (без хранения в памяти слов и других единиц языка невозможно выйти к семантизирующему пониманию) и, наконец, опыта переживаний, чувств, оценок (как основы смыслового типа понимания).
Смысл, который стремятся передать субъекты коммуникации, не выражается в словах и высказываниях (и шире – в текстах). Скорее, слова со своим семантическим потенциалом указывают или отсылают аллюзивно к определённым ситуациям употребления и интерпретациям. Ситуативные интерпретации всегда выходят за рамки лингвистической структуры дискурса, т.е. самого текста. Мерло-Понти (Merleau-Ponty) называл это явление сущностной неполнотой и аллюзивностью языка (essential incompleteness) (цит. по [14: 134]). Сообщение, передаваемое в тексте, передаётся не только и не столько словами, сколько вне и помимо слов.
Тексты (или высказывания), помещённые в контекст, являются центральными событиями в структуре охватывающего всю ситуацию действия. Для того, чтобы понять сообщение как такое центральное событие или феномен, на который обращена рефлексия и который описывается и объясняется, нужно выйти за пределы этого центрального явления и обратиться к другим феноменам (например, культурной ситуации, обстоятельствам, общим для коммуникантов ожиданиям и предварительным знаниям и т.п.), взаимно признаваемым существенными для ситуации производства и восприятия текста. Таким образом, центральное событие и поле действования (или рамочные, периферийные события) соотносятся как объект и его поле, и могут рассмат- риваться как два типа феноменов, которые взаимно дополняют и обусловливают друг друга [14: 127], о том же см.: [10].
Пнятие контекста многопланово: можно считать, что текст помещён в среду или способен активировать набор (сеть) различных видов контекстов (многоплоскостной контекст). Синтагматика текста реализует парадигматические отношения в форме контекстов, подстановка которых становится одной из читательских стратегий (техник понимания), направленных на усмотрение смыслов. Контекстуальность заменяет интегративность и охватывает «множество контекстов, на которые спроецировано произведение» [5: 9–10].
Сам по себе текст (или часть дискурса) не имеет объективного контекста. Однако текст обладает контекстуальными ресурсами, потенциальными контекстами, которые могут быть переведены в актуальную форму в диалоге. В предпереводческом анализе текста диалогом является сама интерпретативная деятельность переводчика, в ходе которой он актуализирует ресурсы текста (и дискурсивной ситуации перевода), преодолевая непонимание в собственной актуальной ситуации. В качестве контекстуальных ресурсов можно назвать следующие феномены (список контекстов не является конечным).
-
1. Непоср едственны е контекстуальные ресурсы, которые могут быть представлены либо предшествующим дискурсом, либо дискурсом, строящимся по ходу диалога (так называемые cо-texts – совместно существующие тексты (см.: [14: 128]). Такие контексты могут быть представлены совместными ситуациями деятельности. Для ситуации в переводческой деятельности контексты в предпереводческом анализе возникают из реактивации следов памяти значений и их употреблений (знаковые ситуации); другой разновидностью непосредственного контекстуального ресурса является окружающий мир, обстоятельства деятельности, определённые темпорально и постранственно (культурно-исторические контексты написания и прочтения). Эти контексты возникают из усмотрения значений объективно-реальностной ситуации (дейк-тические маркеры, детали и прочие метки реальности). Семантические функции грамматических форм могут рассматриваться в их отношении к смысловому содержанию высказывания, к тому, что хочет выразить говорящий, с точки зрения отношения обозначаемых ситуаций к смыслам, охватываемым такими категориями, как темпоральность, вид и другие средства выражения аспек-туальности, таксиса, временной локализованности, реальности, обусловленности и др. [3: 30–31].
-
2. В то же время мы имеем дело с абстр актными контекстными ресурсами, которые могут частично пересекаться и конвергировать. К таким абстрактным ресурсам отнесем: а) пресуппозиции участников диалога («горизонты»), которые уточняются и меняются по ходу диалога; б) программы (экс-пектации, в том числе жанровые) – такие экспектации обращены к внутритекстовой ситуации, а не к ситуации интерпретации в отличие от ожиданий, которые относятся к первому типу контекстных ресурсов; программы-ожидания также подлежат корректировке по мере развития диалога; в) субъективное знание, которое в случае письменного текста выступает в форме ожиданий, связанных с идеологическими и культурными совпадениями и разногласиями автора и читателя, релевантными с позиций личных предпочтений и культуро-сообразности; г) абстрактные рамки данной ситуации с позиций реализуемых
видов словесности или жанров как формально-содержательного единства. Рамочная экспектация определяет, что происходит, кто является повествователем и как следует относиться к сказанному. В этой связи особую роль играет модальная структура текста. Этот тип контекста исследуется как схема, фрейм, сценарий (см.: [4; 5]). Профессиональные и более широкие социальноинституциональные контексты и субкультуры представляют собой особый вид контекстуальных указателей, связанных со знанием специфики объективной реальности, как части пропозициональной структуры текста (см. исследование контекстуальной структуры рассказов О.Э. Мандельштама «Феодосия» [7; 8]). Наиболее абстрактный тип контекстуальных пресуппозиций представлен знанием лингвистических и коммуникативных правил, а также причастностью к общечеловеческим и разделяемым всеми представителями лингвокультуры ценностям (коллективная память).
Термин «пресуппозиция», часто используемый в связи с общими предпосылками понимания в диалоге, может быть переосмыслен не столько как предзнание, а как знание, возникающее в процессе диалога (ср. pre-suppose и co-suppose ) - моделирование смыслов средствами текста может происходить не по программе автора, а по программе реципиента, для которого средство стало контекстно значимым.
Важно отметить, что все контексты являются семиотическими феноменами - т.е. они осмысленны только в отношении определённого дискурса (или его остановленного варианта - текста), хотя чтение текста помещает читающего в дискурс, сгенерированный этим текстом. Часть дискурса становится контекстуальным ресурсом, только если когнитивно осознается как таковая (например, к этому отсылают детали и аллюзии в тексте). Абстрактные (когнитивные) и конкретные контекстные ресурсы задают целостность контекста, взаимно ограничивая друг друга по релевантности. Релевантным контекстом будет не всё, что предшествовало событию диалога, а только то, что является существенным и играет активную роль в производстве новых смыслов текста в процессе восстановления контекста.
Актуальные (реализованные) контексты существуют не в форме единого слитного контекста, а как матрица множества контекстов, собираемых из целого набора контекстуальных ресурсов. Чем большее число ресурсов удаётся задействовать в диалоге (интерпретации текста), тем выше вероятность усмотрения смыслов, тем яснее субъективно-реальностная ситуация текста. Без сомнения, горизонты ожидания текста и читателя не могут полностью совпадать, так же как не могут совпадать контекстуальные ресурсы разных читателей. Как вариативность, так и пересекаемость контекстов и контекстуальных ресурсов весьма значительна, однако, основным является различие между непосредственной ситуацией и живой культурной традицией, или контекстом ситуации и контекстом культуры. Поэтому любой текст является одновременно и диалогом двух субъектов, и диалогом двух культур, локализуя событие диалога и в социально-физическом пространстве, и в пространстве культуры.
В целом всё разнообразие контекстуальных ресурсов можно свести к «ко-текстуальным» (или дискурсивным), ситуативным и идеологическим (когнитивным). В другой терминологии это текстуальный разделяемый контекст, дейктический (ситуационно разделяемый) контекст и общий (культурно разделяемый) контекст (см.: [14: 133]).
Контекстные ресурсы устного и письменного дискурса отчасти совпадают, поскольку текст сам по себе также не содержит свой собственный смысл. Однако, по относительной важности типов контекстов, контексты для устных и письменных текстов будут отличаться. В частности, для текстов ситуативные контексты менее важны, чем социокультурные.
Контексты, как предполагает их название, находятся на втором плане, и не присутствуют в тексте явно (хотя в высказанной интерпретации, вторичном тексте, могут быть озвучены как пропозиции, полученные рефлексивно или воспринятые смысловым образом). Вместе с тем, контексты не являются объективной средой, безусловно наличными ситуациями, в которые помещается текст, они производятся в процессе взаимодействия. Производимые контексты – это те аспекты знаковых, объективно-реальностных или субъективно-реальностных ситуаций, которые признаются, усматриваются и опознаются как релевантные участниками диалога. Принцип релевантности контекста указывает на существование сложных внутренних взаимоотношений между пониманием языкового выражения и выстраиванием для него релевантного контекста. Чтобы адекватно интерпретировать то или иное высказывание, необходимо создать для него релевантный контекст, который, однако, не может быть идентифицирован, пока не будет понято высказывание. Проблема кажется неразрешимой только в рамках теории детерминизма – поскольку дискурс и контекст взаимно и параллельно определяют друг друга в процессе коммуникативной деятельности (контекстуально обусловленного действия).
Говоря что-либо, мы тем самым меняем наличную ситуацию, модифицируем контекстуальные матрицы, задействуемые в диалоге. Релевантные контексты задают структуру, определяют потенциальные возможности и накладывают ограничения, но в то же время контексты и сами структурируются дискурсом. Релевантные контексты и релевантные интерпретации взаимно отбирают, гармонизируют и составляют друг друга. Контексты участников коммуникации могут не полностью совпадать или даже противоречить друг другу. Как дискурс, так и контексты являются потенциальной причиной взаимопонимания или непонимания.
Ч. Филмор [14: 139] говорит о двух сообщениях, передаваемых одновременно в диалоге – текстуальном и контекстуальном. В художественном тексте приём динамического зачина (автор вводит активное действие или событие без их объяснения в экспозиции) позволяет имплицировать контекст, представив события и явления как уже известные читателю: использование имён собственных, отсылки к определённым событиям (например, “Exactly when the ball began Leila would have found it hard to say”, “Missis Dalloway said she would buy the flowers herself”). Таким образом, существование референтов художественного мира (событий, героев, явлений) одновременно и предполагается, и сообщается. Внутренняя противоречивость контекстов состоит в том, что они и входят в состав передаваемых сообщений и являются объяснением, основанием понятности этих сообщений.
Ситуации коммуникации не происходят изолированно. Напротив, они всегда пересекаются в пространстве и времени, соприкасаясь как письменные тексты, артефакты, или участники коммуникации, перемещающиеся между ситуациями. Таким образом, дискурсы тоже перемещаются и требуют изменения или восстановления контекстной матрицы. Реконтекстуализация - это динамический перенос содержания одного текста, помещённого в свой собственный контекст, в другой текст. Интертекстуальность может касаться как отдельных аспектов дискурса, так и жанровых характеристик текстов. Основным способом реконтекстуализации является помещение текста в новые рамки. Реконтекстуализации могут подвергаться языковые выражения, концепты и пропозиции, факты, основания, нарративы, оценки, ценности и иделогии, знания и теоретические конструкты, взгляды и отношения к чему-либо, способы мышления и выражения. Когда части текстов или дискурсов перемещаются с помощью реконтекстуализации, они часто меняют свою текстовую структуру. Реконтекстуализация обязательно происходит при переводах, например, при упрощении, сокращении, усложнении или перефокусировке. О различных связанных с реконтекстуализацией модификациях, которым подвергаются тексты в переводе, писал А. Берманн (см.: [11]). Такие перемены часто выливаются в смещение отношений между текстом и контекстом, между передним и задним планами. Иногда говорят о том, что при переводе необходима контекстуализа-ция базовых лингвистических явлений (например, в лексике или морфологии), которые не имеют контекста в родном языке, но требуют такового при смене рамки (например, рамки культуры) для интерпретации в иной культуре. Это утверждение не вполне корректно, так как с позиций субъекта любой текст и любая его часть контекстуально обусловлены [13: 152].
Реконтекстуализация не означает, что её объекты существуют какое-то время вне всякого контекста и потом в него помещаются, так как это всегда изменение самого содержания вместе с релевантным ему контекстом. Значение приставки «ре-» ближе по значению к «пере-» как пересмотреть , переделать , переработать и т.п.
Реконтекстуализация может происходить на любом уровне дискурса. Например, внутритекстовая реконтекстуализация смещает фокус актуализации, вводя новые аспекты и части референциальных миров и семантических полей. Это особенно актуально при введении текста перевода в чужую культуру. Реконтекстуализация может проходить поверх текстов и дискурсов, и здесь возможно смещение интертекстуальных феноменов: соотнесение определённых текстов и дискурсов со своими, зарегистрированными в данной культуре контекстами. На более высоком уровне (междискурсивные феномены) происходит смещение контекстов, связанных с отношениями типов дискурсов, жанров, видов словесности - например, при отсутствии в принимающей культуре того или иного вида словесности меняется вся матрица контекстных ресурсов. Дискурс здесь вбирает в себя практически всё, что было сказано в данной лингвокультуре по какой-то теме, каким-то специфичным способом (например, в рамках определённого жанра, традиции, исторического периода и т.п.) [1].
Реконтекстуализация на всех уровнях требует пересмотра устоявшихся смыслов, переинтерпретацию новых смыслов. Она может затрагивать и языковые формулировки, эксплицитно выраженные или имплицированные в оригинальном тексте или жанре. В любом случае, смыслы не переносятся непосредственно в иную культуру теми или иными средствами (например, вербальным - 226 - переводом), это всегда сложный процесс трансформации, со сдвигами значения, новым потенциалом, переакцентуацией или полной заменой семантических аспектов. Даже в случае с цитированием требуется подробный анализ цитируемого и цитирующего контекстов. В частности, цитирование может нести оценочность цитирующего в отношении цитируемых высказываний, их изначальных контекстов и их авторов. В целом при реконтекстуализации формальные аспекты языковых выражений могут быть сохранены; семантические аспекты и коммуникативные функции чаще меняются из-за смены контекстов. Поскольку передаче в коммуникации подлежат не только тексты и дискурсы, но и миры, в которых они живут, интересный пример дают переинтерпретации академических знаний в общедоступную форму (так называемая «вульгаризация») – как это было с работами Дарвина, Фрейда, Эйнштейна.
Реконтекстуализация не сводится к простому переносу фиксированного смысла, она требует сложной трансформации смыслов и смыслового потенциала. Отсюда, многочисленные споры о возможности перевода, о допустимых и не допустимых потерях при переводе, доместикации и форенизации при переводе. Смена контекста становится сама по себе смыслообразующим действием, состоящем в том, чтобы использовать дискурсы и смыслы исходного текста в качестве ресурса для создания новых смыслов во вторичном тексте и его коммуникативных контекстах.
Список литературы Контекстуальные ресурсы в переводе
- Бахтин М. М. Проблема речевых жанров//Бахтин М.М. Литературно-критические статьи. М.: Прогресс, 1986. С. 428?472.
- Богин Г.И. Обретение способности понимать: Введение в герменевтику /URL: http://sbiblio.com/biblio/archive/bogin_obretenie (дата обращения: 11.04.2013).
- Бондарко А.В. К проблеме интенциональности в грамматике (на материале русского языка)//Вопросы языкознания. 1994. № 2. С. 29?42.
- Дридзе Т.М. Интерпретационные характеристики и классификация текстов (с учётом специфики интерпретационных сдвигов)//Смысловое восприятие речевого сообщения (в условиях массовой коммуникации). М.: АН СССР. Ин-т языкознания, 1976. С. 34-45.
- Жолковский А.К. Блуждающие сны и другие работы. М.: Наука. Восточная литература, 1994. 428 с.
- Кукушкина С. К. Оптимизация речевой формы устного объяснения учителя: дис. … канд. пед. наук. М., 1981. 213 с.
- Оборина М.В. Лингвокультурные парадигмы в пространстве текста//Вестник Тверского государственного университета. Серия «Филология». 2013. № 24. Вып. 5 «Лингвистика и межкультурная коммуникация». С. 89-96.
- Оборина М. Набросок об античности как контексте прочтения (на примере «Феодосии» Мандельштама)//Les reflets de l’Antiquite Greque a l’Age d’Araent. Centre d'Etudes Slaves Andre Lirondelle Lyon, Modernites russes, Universite Jean Moulin Lyon, том 15, Lyon, 2015. С. 203-212.
- Фикс, У. Проявляется ли культурная специфика в типах текста. Слово в защиту широкой трактовки понятия «тип текста»//Вестник ВГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2001. №2. С. 100-107.
- Якобсон Р. Часть и целое в языке//Р. Якобсон. Избранные работы. М.: Прогресс, 1985. С. 301-306.
- Berman, A. Translation and the Trials of the Foreign//The Translation Studies Reader. London: Routledge.2000. Pр. 240-253.
- Eco U. The Limits of interpretation. (Advances in semiotics series). Bloomington and Indianopolis: Indiana University Press, 1990. 295 p.
- Fish, S.Eu. How to write a sentence: and how to read one. N.Y.: Harper Collins Publishers, 2012. 166 p.
- Linnel, P. Contexts in discourse and discourse in contexts//Approaching Dialogue: Talk, interaction and contexts in dialogical perspectives. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing, 1998. Pр. 127-158.