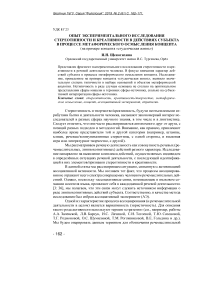Опыт экспериментального исследования стереотипности и креативности в действиях субъекта в процессе метафорического осмысления концепта (на примере концепта "студенческая жизнь")
Автор: Щекотихина Ирина Николаевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Экспериментальные исследования
Статья в выпуске: 2, 2019 года.
Бесплатный доступ
Представлен фрагмент экспериментального исследования стереотипности и креативности в речевой деятельности человека. В фокусе внимания характер действий субъекта в процессе метафорического осмысления концепта. Исследование, проведенное на примере концепта «студенческая жизнь», выявило значительную степень типичности в выборе оснований и объектов метафорической аналогии. Нетипичность в ряде случаев основана не столько на оригинальном представлении сферы-мишени в терминах сферы-источника, сколько на субъективной интерпретации сферы-источника.
Стереотипность, креативность/творчество, метафорическое осмысление, концепт, ассоциативный эксперимент, стратегия
Короткий адрес: https://sciup.org/146281437
IDR: 146281437 | УДК: 81’23
Текст научной статьи Опыт экспериментального исследования стереотипности и креативности в действиях субъекта в процессе метафорического осмысления концепта (на примере концепта "студенческая жизнь")
Стереотипность и творчество/креативность, будучи неотъемлемыми атрибутами бытия и деятельности человека, вызывают закономерный интерес исследователей в разных сферах научного знания, в том числе и в лингвистике. Следует отметить, что они часто рассматриваются автономного друг от друга, с позиций разных подходов и методологий. Внимание, как правило, привлекают наиболее яркие представители той и другой категории (например, штампы, клише, речевые/коммуникативные стереотипы, с одной стороны, и языковая игра или литературное творчество, с другой).
Мы рассматриваем речевую деятельность как совокупность речевых (речемыслительных, лингвокогнитивных) действий разного характера. Исследование напарвлено на выявление комплекса действий, осуществляемых индивидом в определённых ситуациях речевой деятельности, с последующей идентификацией в них элементов/признаков стереотипности и креативности.
В данной статье мы рассматриваем ситуацию, связанную с активизацией ассоциативной активности. Мы осознаем тот факт, что процессы ассоциирования не отражают всего спектра совершаемых человеком речемыслительных действий. Однако, поскольку «ассоциативные связи, возникающие в языковом сознании носителя языка, проявляют себя в каждодневной речевой деятельности» [3: 36], мы полагаем, что эти связи могут служить источником информации о ряде лингвокогнитивных действий субъекта. Соответственно, в качестве метода исследования был избран ассоциативный эксперимент (АЭ).
Одной из характеристик процесса ассоциирования (и речемыслительной деятельности в целом) является вариативность (эвристичность). Для описания такого рода активности используют термин «стратегия» (см., например, работы А.А. Залевской, Л.В. Барсук, И.С. Лачиной, С.И. Тогоевой, Т.Ю. Сазоновой, Т.Г. Родионовой, О.С. Шумилиной, Т.М. Рогожниковой, В.Е. Гольдина и др.). Мы будем оперировать данным термином для обозначения речемыслительной
(осознаваемой и неосознаваемой) активности субъекта, задающей направление его действий, актуальных для достижения определённой цели.
Целью любого АЭ является порождение ассоциаций на стимул. Для достижения данной цели испытуемые (Ии.) должны совершить ряд действий, направленных на восприятие и идентификацию стимула, установление и отбор ассоциативных связей, их вербализацию.
Активность процесса восприятия стимула проявляется в его избирательности. Ии. фокусируют внимание на признаке (комплексе признаков) воспринимаемого объекта, который становится основой для идентификации стимула. Процесс опознания стимула тесно связан, выражаясь языком А.А. Залевской, со всем ансамблем психических процессов, продуктом которых является субъективное переживание знания (см., например, [6; 7]). Актуализированные признаки выступают в качестве «ключей доступа» к соответствующим фрагментам ментальной репрезентации стимула и направляют процесс распространения активации в ассоциативной сети. Выбор способа и формы вербальной объективации ассоциаций также сопряжён с осуществлением целого комплекса «выборов»: выбора референциального «измерения» ассоциативной реакции, выбора коммуникативно-прагматических параметров вербального выражения, выбора грамматических характеристик языкового знака и т.д. Таким образом, объективированная в анкете реакция несёт в себе информацию о речемыслительных «ходах» субъекта в процессе выполнения задания. Нас в данной части исследования интересуют действия, связанные с восприятием стимула и установлением ассоциативных связей. Характер осуществления этих действий будет оцениваться с точки зрения их стереотипности/креативности. В этой связи возникает вопрос о параметрах анализа и критериях оценки. Для ответа на этот вопрос необходимо определиться с трактовкой самих феноменов стереотипности и творчества.
В самом широком смысле стереотипностью характеризуется нечто выполненное по образцу (шаблону), привычным способом, в привычном функционале, в рамках принятых норм/правил, путем выбора из числа возможных вариантов и т.п. Творчество же сопряжено с выходом за пределы заданного, при котором создаётся эффект неожиданности, оригинальности [4].
Следует также заметить, что рассматриваемая нами оппозиция «стереотипное - творческое» представляет собой не столько бинарную оппозицию, сколько шкалу, градуируемую по степени принципиальности изменений, или континуум различных взаимодействий нового и старого, стандартного и оригинального. Таким образом, мы можем говорить об элементах или признаках сте-реотипного/творческого в речевых действиях субъекта.
Описываемая часть эксперимента проводилась в режиме направленного АЭ, который нацеливал Ии. на установление ассоциаций метафорического характера, т.е. на метафорическое осмысление представленного стимулом концепта. Данное задание было призвано активизировать творческую активность Ии., поскольку метафора считается ключевым инструментом творческой мысли. В процессе творчества происходит объединение разнородных сущностей методом глубинных аналогий сравнения двух и более аспектов действительности, что считается главной операцией творческого мышления [5]. Основной меха- низм образования метафоры также функционирует по принципу аналогизирова-ния, т.е. установления отношения подобия между разными реальностями [10]. Установление таких отношений «позволяет нам понимать довольно абстрактные или по природе своей неструктурированные сущности в терминах более конкретных или, по крайней мере, более структурированных сущностей» [14: 245]. Следовательно, ассоциативная активность Ии. направлялась на поиск подобия между содержанием стимула и другой ментальной сущностью, в процессе чего, актуализировав некий участок репрезентации стимула, Ии. должны были обнаружить объект с аналогичными свойствами в другой структуре знаний. Интересующая нас стратегическая активность может реализовываться в двух типах действий: 1) актуализация фрагмента метальной репрезентации, создающего основу метафорической аналогии; 2) поиск объекта метафорической аналогии.
Вариативность поведения Ии. в первом случае будет заключаться в актуализации разных фрагментов. Соответственно, выбор того или иного фрагмента становится параметром анализа первого типа действий. Данный выбор будет оцениваться по критерию его типичности/нетипичности .
При анализе действий, связанных с поиском объекта метафорической аналогии, необходимо обратить внимание на направление и область поиска. Дело в том, что перед Ии. не ставилась задача порождения исключительно новых метафор, характеризующихся новизной и неожиданностью. Экспериментальное задание создавало ситуацию выбора стратегии: а) поиск в области традиционных аналогий (конвенциональных метафор); б) поиск в области прямого, явного сходства; в) творческий поиск, т.е. создание метафоры.
Иными словами, стимулирование творческой активности не исключало возможности поиска в области привычных ассоциаций, поэтому конечный продукт мог быть результатом поисковой активности разного рода: от извлечения имеющейся в памяти информации о связи стимула с другими объектами до обнаружения принципиально новых путей объединения разнородных объектов. Таким образом, выбор направления и области поиска объекта для сравнения/ана-логии становится параметром анализа действий данного рода, также как и выбор самого объекта . Данные параметры рассматриваются с точки зрения привычно-сти/непривычности и очевидности/неочевидности связи между сравниваемыми объектами.
В качестве дополнительного критерия мы предлагаем критерий соответствия избранной стратегии поставленной задаче (т.е. результативность поиска), который проявляется в удачности/неудачности метафорического сравнения. Объясняется это тем, что продукт творческого акта, несмотря на неожиданность «решения», должен вписаться в реальность бытия и сознания, новая идея должна быть осмыслена в её связях и функциях по отношению к другим элементам семантического пространства знаний, существующих в данной культуре [4]. Удачная метафора характеризуется образностью, яркостью, она не нуждается (или почти не нуждается) в объяснении.
Перейдём к описанию экспериментальной процедуры и результатов исследования. В качестве объекта метафорического осмысления был предложен концепт «студенческая жизнь», имя которого выполняло функцию стимула. Ии. должны были назвать нечто, чему они могли бы образно уподобить студенче- скую жизнь, по возможности поясняя свое решение. В анкетировании было задействовано 367 человек в возрасте от 16 лет и старше. Анкетирование проводилось в группах от 12 до 50 человек. Время выполнения задания не ограничивалось.
Количество реакций по итогам данного этапа АЭ составило 405 единиц. Некоторые Ии. давали более одной реакции, некоторые оставили анкеты пустыми или написали «Не знаю», «Затрудняюсь ответить». Часть реакций была исключена из рассмотрения в связи с несоответствием действий Ии. поставленной задаче. Так, вместо метафорических интерпретаций давались квазидефиниции или оценки, актуализировались фрагменты ментальной репрезентации стимула или устанавливалось семейное сходство: Это когда много знаешь, но ничего не делаешь // Студенческая жизнь – это сессия, общага, колхоз // Здорово! // лучшие годы жизни // умственный труд // молодость // любовь // Воронеж // корпус № 6 // школа (только сложнее) и т.п.
В целом количество «пустых» и исключенных из рассмотрения анкет незначительно (8%). Подавляющее большинство участников эксперимента продемонстрировали стремление к пониманию и переживанию сущности одного вида в терминах сущности другого вида (по Дж. Лакоффу и М. Джонсону [13]). Рассмотрим используемые ими стратегии по обозначенным выше параметрам.
Выбор основания метафорической аналогии. Судя по данным свободного АЭ, стимул «студенческая жизнь» является «ключом доступа» к довольно богатой по содержанию области ожидаемой активации, сочетающей в себе следы разнородного опыта [11]. В «окно сознания» выводятся наиболее значимые фрагменты опыта, которые оказываются в фокусе внимания в момент выполнения задания. В актуализованном фрагменте выделяется доминирующий признак, который задаёт вектор стратегической активности субъекта на данном этапе процесса ассоциирования и становится основанием метафорической аналогии. В отличие от свободного АЭ, результат этого этапа не фиксируется в анкетах. Он используется в качестве ориентира для дальнейшего поиска, в качестве средства доступа к другим ментальным областям.
Тем не менее, объективированные в реакциях Ии. метафоры и комментарии к ним позволяют с определённой долей точности установить их основания. Анализ материала выявил довольно широкий диапазон признаков, которые Ии. кладут в основание метафорического переноса: начало жизненного этапа, новизна, переходный характер периода жизни, длительность/ нескончаемость, быстротечность, развитие/ формирование, познание, активность, насыщенность событиями, эмоциональность, спокойствие, большое количество людей, большое количество информации, большой объем работы, суета/неразбериха, чувство голода, чувство страха/ опасности, наличие трудностей, борьба, соревнование, напряжение, утомительность, монотонность/ скука, выживание (способность к выживанию), надежды/перспективы, непредсказуемость, безысходность, успех, ощущение свободы, отсутствие свободы (в том числе свободы выбора), беззаботность, притягательность, интересность, красота/ яркость, позитив, негатив, сочетание позитива и негатива, многоликость, нереальность.
Однако, несмотря на разнообразие признаков, среди них нет уникальных, они «читаются» в реакциях разных Ии. Кроме того, те же характеристики студенческой жизни были выявлены в материале свободного АЭ, т.е. они входят в область ожидаемой активации. Соответственно, выбор этих признаков довольно типичен.
Выбор объекта аналогии, направления и области его поиска. Направление ассоциативной активности Ии. во многом определялось характером поставленной задачи, которая ориентировала их на поиск похожего объекта в других категориях, стимулируя выход за пределы обыденной таксономии объектов. Метафора, по замечанию Н.Д. Арутюновой, «работает на категориальном сдвиге» [1: 18].
Таким образом, действия Ии. на данном этапе будут различаться стратегией, определяющей выбор категории, в которую «включается» обозначенный стимулом объект. По данным эксперимента, репертуар таких категорий довольно разнообразен: природа; единицы измерения времени и жизненного цикла; физические явления и процессы; сверхестественные существа; вещи и предметы; еда и напитки; транспортные средства; сооружения и их части; учреждения; метафизические объекты; человек и его деятельность и пр.
Выбор объекта в рамках категории – ещё одна «развилка» в «линиях поведения» Ии. Например, категория «природа» представлена водными объектами (река, море, ручей, водопад), явлениями и стихиями (солнце, дождь, молния, ветер, буря, ураган, шторм, радуга), прочими объектами неживой природы (айсберг, вулкан), объектами живой природы (дерево, цветок, росток, зебра, лошадь, змея, птица), местами их обитания (птичий базар, муравейник), жизненными процессами и действиями (рост дерева, развитие саженца, полёт птицы).
Оценивая ответы Ии. с точки зрения привычности/ непривычности связи между сравниваемыми объектами, следует заметить, что наш опыт наблюдений за функционированием концепта «студенческая жизнь» в отечественной линг-вокультуре не зафиксировал каких-либо связанных с ним устоявшихся метафор. Данное обстоятельство лишило Ии. возможности установления прямых и привычных связей между стимулом и реакцией. Таким образом, Ии. были вынуждены создавать метафоры, осуществляя самостоятельный поиск аналогий. Соответственно, мы не можем квалифицировать их действия как крайне стереотипные, т.е. автоматически воспроизводящие запечатлённый в памяти ассоциативный «союз». Элемент креативности заключается в необходимости выхода за пределы непосредственно связанной со стимулом зоны активации и установлении новых связей.
Вместе с тем направление «выхода» совпадает у нескольких Ии., о чём свидетельствует наличие повторяющихся реакций. Например, реакция зебра встречается 7 раз, ветер – 6, весна – 5, полёт птицы, времена года, сказка, круговорот событий – 4, водоворот, море, вулкан, ураган, радуга, муравейник – 3, погода, шторм, солнце, лошадь, змея, юла, поезд, светофор, калейдоскоп событий, дорога, уходящая в даль, чистый лист, марафон, солнечное утро, фейерверк, война, сон – 2. Таким образом, действия Ии. характеризуются типичностью в стратегиях выбора области и объекта для метафорической проекции. Примечательно, что в большинстве единичных реакций прослеживается та же тенденция. Ии. «создают» метафоры на основе типичных представлений об объектах сферы-источника: они соотносят используемый в роли основания метафоры концептуальный признак с его образным «двойником».
Актуализированный признак вызывает из памяти уже сформированные в лингвокультурной традиции и отложившиеся в когнитивном опыте индивида - 166 - метафорические проекции. Так, реакции росток, молодое дерево, бутон цветка, чистый лист, линия старта, весна и начало лета, утро и начало дня, восходящее солнце и т.п. объединяются признаком НАЧАЛО ЧЕГО-ЛИБО, в данном случае «начало жизненного этапа».
В числе стандартных метафорических аналогий можно также назвать: ассоциирование СТРАХА/ ОПАСНОСТИ с природными катаклизмами и стихийными бедствиями ( извержение вулкана, цунами, буря ), экстремальными видами деятельности ( поездка по горной дороге , гонки на машинах ); СВОБОДЫ с воздухом, птицей, полётом птицы ; БЫСТРОТЕЧНОСТИ с мигом, мгновением, вспышкой ; ПЕРЕХОДА ОТ ОДНОГО ЭТАПА К ДРУГОМУ с переправой на лодке от одного берега к другому, подъёмом по лестнице ; АКТИВНОСТИ с кипящей водой, бурлящей рекой, водоворотом ; ТРУДНОЙ ЖИЗНИ с бегом с препятствиями, рекой с подводными камнями ; ДЛИТЕЛЬНОЙ И УТОМИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ с каторгой, марафоном, трудом пчелы или лошади ; БЕЗЗАБОТНОСТИ с лёгким ветерком, звонким ручейком, воздушным шариком ; ЖИЗНИ В БОЛЬШОМ И ШУМНОМ КОЛЛЕКТИВЕ с муравейником, коммунальной квартирой, птичьим базаром ; ВЕСЕЛОЙ И СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ с раем, праздничным фейерверком, вечным летом ; РАЗВИТИЯ (ФОРМИРОВАНИЯ) - с ростом дерева, развитием саженца, лепкой из пластилина ; НАДЕЖДЫ - со светом в конце тоннеля . Представление о наличии в студенческой жизни и ПОЗИТИВА, И НЕГАТИВА часто видится в образе зебры, ада и рая, соли и сахара, ясной и пасмурной погоды ; о ее МНОГОЛИКОСТИ (РАЗНООБРАЗИИ) - в образе четырёх стихий, радуги, калейдоскопа. Некоторые реакции объективируют образы, актуализирующие несколько признаков, т.е. область смешанного пространства (blended space/blend, по Ж. Фоконье и М. Тернеру [12]) оказывается более широкой. Например, ощущение стремительности, опасности и преодоления трудностей передается образом СКОРОСТНОГО СПУСКА С ГОРЫ С КУЧЕЙ ПРЕПЯТСТВИЙ; мысль о выполнении большого объёма тяжёлой работы и сомнении в её результативности и полезности - образом ФЕРМЫ (на которой нужно батрачить и неизвестно, получишь ли результат).
Таким образом, несмотря на вербальную индивидуальность большинства реакций, они обнаруживают сходство на уровне актуализированных концептуальных признаков. Стереотипность поведения Ии. в данном случае заключается, во-первых, в актуализации идентичных признаков объекта сферы-мишени (target domain, по Дж. Лакоффу и М. Джонсону [13]), во-вторых, в направлении ассоциативной активности в области наиболее вероятного обнаружения объекта с аналогичным свойством. Иными словами, поиск осуществлялся в пространстве предсказуемых (очевидных) аналогий. Элемент новизны во всех таких случаях заключается в том, что указанные в анкетах сущности не связаны напрямую с концептом «студенческая жизнь».
Следует обратить внимание на тот факт, что одна и та же реакция в анкетах разных Ии. является объективацией разных признаков, что выявляется в комментариях респондентов. Например, СКАЗКА : 1) скоро закончится, 2) трудности в ней можно преодолеть, 3) счастливое время ; РАДУГА : 1) разные краски , 2) приятное и неприятное ; ОЗЕРО : 1) эволюция от болота, озеро лучше, спокойное, немного нудное, но красивое , 2) ожидаешь чего-то великолепного, кажется сначала, что безумно красиво, а потом оказывается, что ничего особенного в нем и нет: вода она и есть вода ; ЮЛА : 1) многое зависит от того, куда тебя дальше повернет, 2) если ее раскрутить, она меняется, становится интересной, если нет, она «тормозится» и не движется дальше.
Некоторые из данных ассоциаций не вполне привычны, например, использование образа радуги в качестве символа единства приятного и неприятного или образа юлы для выражения идеи зависимости человека от поворотов судьбы. Однако в первом случае логика метафорического осмысления, в принципе, понятна: разные цвета радуги имеют разную символику и могут ассоциироваться с разными моментами в жизни (приятными и неприятными). Прогнозировать такую интерпретацию возможно, хотя, на наш взгляд, она не очень точно передаёт выражаемый смысл. В случае с юлой реакция неожиданная, но она неадекватно представляет указанный в пояснении признак. Испытуемый приписывает предмету качество, которое у него отсутствует, не соответствует механизму его действия (юла раскручивается в одну сторону). Таким образом, нестандартность рассматриваемых примеров обусловлена не столько оригинальностью аналогии, выявляющей новые смысловые нюансы, сколько некорректностью в установлении сущностных свойств объектов сферы- источника (source domain, по Дж. Лакоффу и М. Джонсону [13]).
Индивидуальность некоторых реакций проявляется в субъективности оценок, например, ПЕРСИК (сладкий, вкусный, но если не приложить усилий и не помыть, будет больно); МАНГО (вроде неизвестный, экзотичный фрукт, а на вкус как наша морковь) . Данные оценки отражают опыт личного знакомства Ии. с окружающим миром. Однако многие из них воспроизводимы в опыте разных людей. Например, ассоциация с персиком, по всей вероятности, основана на контрасте «привлекательный внешний вид - неприятные последствия от более близкого знакомства», создающем эффект обманутого ожидания. Интерпретировать данную ассоциацию можно следующим образом: кожица у персика выглядит мягкой, нежной, но в ней скрыты микроскопические колючки, и если не помыть, как следует, а сразу «вгрызться» в мякоть, будет больно. Вместе с тем, несмотря на трафаретность самой модели сравнения, образ персика не является характерным для ассоциаций по линии её актуализации. Поэтому здесь мы можем усмотреть меньшую степень очевидности установленной аналогии.
Нетипичным выглядит и представление идеи обманутого ожидания посредством образа манго. Испытуемый здесь в большей степени оперирует субъективными оценками, не исходящими непосредственно из онтологических свойств объекта. В принципе, любой экзотический (неизвестный) плод, не оправдавший наших прогнозов по поводу оригинальности его вкуса, может быть использован в качестве объекта-источника сравнения. Обе метафоры, несмотря на осмысление стимула сквозь призму не вполне типичного для метафорической интерпретации его свойств объекта, не отличаются удачностью. Метафора призвана прояснить суть объекта посредством более наглядного образа. Этот образ должен быть «говорящим», т.е. должен транслировать лежащую в его основе идею, которая была «вскрыта/постигнута» в процессе метафориза-ции. Образы же манго и персика не достаточно ярко демонстрируют усмотренные респондентами свойства (обманутое ожидание, разочарование, разбитые иллюзии). Таким образом, действия авторов данных метафор характеризуются нестандартностью и некоторой оригинальностью в плане поиска объекта аналогии, но поиск не дал результата, который, несмотря на новизну и неожиданность, был бы понятен, т.е. «читался» бы как иносказательный аналог стимула. Кроме того, здесь, скорее, имеет место необычная интерпретация объекта сферы-источника (персика, манго), нежели объекта сферы-мишени (студенческой жизни).
Некоторую степень оригинальности можно усмотреть в следующей реакции: ПЛАСТИЛИН (ты лепишь из него то, что хочешь, но цвет за тебя уже выбрали). Сама метафорическая проекция (лепка из пластилина ^ формирование личности в период студенческой жизни) не нова. Однако испытуемый «освежает» её дополнительной аналогией - ассоциацией между выбором цвета пластилина и выбором специальности (вуза, факультета и т.п.). Данное сравнение неизбито, вполне удачно раскрывает передаваемый смысл и вносит новые оттенки в общее восприятие привычных образов. Однако оно полноценно «работает» только в контексте всей реакции, с помощью комментария, раскрывающего «логику» метафорического переноса.
Подытоживая сказанное, отметим, что задача выявления и идентификации того, что в речевой деятельности составляет область стереотипного, а что творческого, представляется крайне сложной. Решение этой задачи требует разработки методологии, позволяющей с единых оснований рассматривать разные проявления речевой деятельности, выявлять в них необходимые для анализа единицы и, используя установленную для каждого типа единиц систему параметров, определять элементы/ признаки стереотипности/ креативности.
В публикуемом фрагменте исследования, опираясь на понимание речевой деятельности как комплекса разного рода лингвокогнитивных действий, мы попытались «препарировать» одну из разновидностей речемыслительной активности человека - ассоциативный процесс, направленный на «порождение» ассоциаций метафорического характера. В результате исследования был установлен «репертуар» совершаемых в данной активности действий, с учетом их характера были разработаны параметры их описания и критерии для идентификации в них элементов/ признаков стереотипности и творчества.
Проведённое исследование выявило определённые черты стереотипности и креативности в действиях Ии. Оно показало, что большинство из них стремились к интерпретации своих представлений о студенческой жизни языком предметных образов. Они устанавливали новые связи, осуществляя поисковую активность, поэтому их действия нельзя квалифицировать как абсолютное «повторение пройденного» (выражение Р.И. Кругликова [8]), характерное для механической, рутинной деятельности. Однако, несмотря на новизну установленных связей и субъективность активизированного стимулом внутреннего опыта, действия Ии. в основной массе не выходят за рамки предсказуемых маршрутов. Актуализированный при восприятии стимула след памяти «толкает» их в сторону привычных образных аналогий. Типичность поведения Ии. наблюдается как в выборе оснований метафорического переноса, так и в поиске объектов для сравнения. Оригинальность в ответах некоторых Ии. проявляется в нестандартности угла зрения на природу объектов сферы-источника, что создает новые образы и делает проводимые аналогии не вполне очевидными.
Таким образом, в действиях участников эксперимента выявляется больше признаков стереотипности. Данный факт обусловлен, на наш взгляд, следующими факторами. В опыте человека сформировано много стереотипов, «матриц памяти» (термин Н.П. Бехтеревой [2]), поддерживающих автоматиче- ские и полуавтоматические формы активности. Важной характеристикой стереотипа является то, что он начинает действовать до «включения» сознания. Очевидные аналогии могут быть и результатом сознательной (логической) мыслительной активности, когда субъект действует «левополушарными стратегиями» (термин В.С. Ротенберга [9]) в рамках ограниченного числа вероятных ходов. Творчество же требует особого состояния сознания, создающего возможность панорамного видения объектов и проникновения в суть внутренних связей между ними. Такое состояние нетипично для повседневной речемыслительной активности. Оно возникает в результате «созревания» и скорость его возникновения зависит от наличия/ отсутствия так называемых креативных способностей – комплекса интеллектуальных и личностных свойств, таких как, например, мотивация к творчеству, открытость ума, находчивость, готовность и умение работать в многозначном контексте, ассоциативная беглость, мыслительная гибкость, активная образность, умение смещать фокус восприятия, чувствительность к нюансам и пр.
AN EXPERIMENTAL STUDY INTO STEREOTYPICALITY AND CREATIVITY IN TEST SUBJECTS’ ACTIONS IN THE PROCESS OF METAPHORICAL INTERPRETATION OF A CONCEPT
Список литературы Опыт экспериментального исследования стереотипности и креативности в действиях субъекта в процессе метафорического осмысления концепта (на примере концепта "студенческая жизнь")
- Арутю нова Н.Д. Метафора и дискурс // Теория метафоры: М.: Прогресс, 1990. С. 5-32.
- Бехтерева Н.П. Магия мозга и лабиринты жизни. М.: АСТ, Сова, 2007. 400 с.
- Горелов И.Н., Седов К.Ф. Основы психолингвистики. М.: Лабиринт, 1997. 224 с.
- Дружинин В.Н. Психология общих способностей. СПб.: Издательство «Питер», 1999. 368 с.
- Дружинин В.Н. Варианты жизни. Очерки экзистенциональной психологии. М.: «ПЕРСЭ» - СПб.: «ИМАТОН-М», 2000. 135 с.
- Залевская А.А. Слово в лексиконе человека: психолингвистические исследования / Под ред. М. М. Копыленко. Воронеж: ВГУ, 1990. 204 с.
- Залевская А.А. Индивидуальное знание: специфика и принципы функционирования. Тверь: ТвГУ, 1992. 135 с.
- Кругликов Р.И. Творчество и память // Интуиция. Логика. Творчество. М.: Наука, 1987. С. 23-35.
- Ротенберг В.С. Две стороны мозга и творчество // Интуиция, логика, творчество. М.: Наука, 1987. С. 36-51.
- Шрагина Л.И. Процесс конструирования метафоры как объект психологического исследования // Психологический журнал. 1997. Т. 18. № 6. С. 121-128.
- Щекотихина И.Н. Опыт анализа структуры концепта (на материале концепта «студенческая жизнь») // Актуальные проблемы коммуникации и культуры. Вып. 7. М.-Пятигорск: Пятигорский гос. лингвистич. ун-т, 2008. С. 110-118.
- Fauconnier G., Turner M. The way we think: conceptual blending and the mind’s hidden complexities. New York: Basic Books. 2002. 440 p.
- Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live by. Chicago: The University of Chicago Press. 1980. 256 p.
- Lakoff G. The contemporary theory of metaphor // Metaphor and Thought / Ortony A., ed. Cambridge: Cambridge University Press. 1993. P. 202-251.