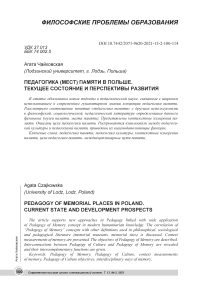Педагогика (мест) памяти в Польше. Текущее состояние и перспективы развития
Автор: Чайковская Агата
Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu
Рубрика: Философские проблемы образования
Статья в выпуске: 2 (52) т.13, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье обоснованы новые подходы в педагогической науке, связанные с широким использованием в современном гуманитарном знании концепции педагогики памяти. Рассмотрено соотношение понятия «педагогика памяти» с другими используемыми в философской, социологической, педагогической литературе определениями данного феномена (музеи памяти, места памяти). Представлены контекстные измерения памяти. Описаны цели педагогики памяти. Раскрываются взаимосвязи между педагогикой культуры и педагогикой памяти, приведены их взаимодополняющие функции.
Педагогика памяти, педагогика культуры, контекстные измерения памяти, цели педагогики памяти, междисциплинарные пути памяти
Короткий адрес: https://sciup.org/142229061
IDR: 142229061 | УДК: 37.013 | DOI: 10.7442/2071-9620-2021-13-2-100-114
Текст научной статьи Педагогика (мест) памяти в Польше. Текущее состояние и перспективы развития
Вопросы, связанные с образованием, понимаемым как «совокупность воздействий, направленных на формирование (изменение, развитие) жизненных способностей человека» [22] конституируют сферу интересов не только педагогов, но и представителей других направлений гуманистической мысли, в том числе историков. Приведенное выше замечание в равной степени относится к основным понятиям, присутствующим в общей структуре терминологии педагогики, к ним относятся такие понятия, как воспитание, образование, преподавание и обучение. Они составляют основу предметных размышлений, принятых в настоящей статье, к которым относится «педагогика (мест) памяти», определяемая как междисциплинарный дискурс. Другими словами, мы постараемся взглянуть на возможные отношения, возникающие между педагогикой, памятью и местом памяти. В этом контексте, по крайней мере три взаимозависимости заслуживают внимания: 1. признание педагогики (мест) памяти педагогической областью, 2. трактовка ее как исторической области, 3. придание педагогике (мест) памяти статуса отдельной, отличенной от вышеперечисленных, области, и, следовательно, независимой, но зависящей как от педагогики, так и от истории.
Генезис и очертание проблемной области
Томаш Кранц, автор, который на протяжении многих лет занимается проблематикой исторического образования в аутентичном месте памяти, отмечает, что «педагогика памяти не является полностью систематической областью с точки зрения содержания и терминологии. Следовательно, трудно найти единое определение, которое объясняло бы сущность, цели и содержание этой формы обучения. В ее основе лежит предположение, что в дидактико-педагогических процессах можно и нужно использовать взаимодействие двух факторов: восприятие аутентичного исторического ме- ста и размышление о памяти прошлого. Ибо предполагается, что такие места преступления как реликвии, памятники и носители памяти вызывают определенные представления, впечатления и ощущения, которые могут быть стимулом для переживания и активного познания прошлого» [18].
Замечание Кранца об отсутствии содержательной и терминологической систематизации области значимо, по крайней мере, по двум причинам. Во-первых, для объяснения формулировки, которая появилась в названии настоящего текста, важно дать читателю понять, что термины педагогика памяти и педагогика мест памяти используются синонимично во многих польских исследованиях, что в первую очередь связано с формированием проблемной области с опорой на немецкую этимологическую основу – Gedenkstättenpädagogik. Тем не менее, взаимозаменяемое использование вышеуказанных терминов приводит к сужению проблематики на теоретической плоскости. Если бы мы хотели придать рассматриваемым областям смысловой диапазон, педагогика памяти имела бы первостепенный характер по отношению к педагогике мест памяти, иначе говоря, являлась бы проблемной областью в смысле largo, что мы постараемся продемонстрировать в дальнейшей части текста, и в этом значении в настоящем исследовании мы используем термин педагогика памяти.
Во-вторых, говоря о педагогике памяти, упомянутый автор (а вслед за ним и многие другие, занимающиеся анализируемой проблематикой) ссылается на историческое место памяти. Эта историчность акцентирует контекстное расположение места в коллективной (массовой) памяти, в социальной памяти и в индивидуальной (автобиографической) памяти. Перечисленные контекстные измерения памяти представлены в следующей таблице ниже.
Педагогика (мест) памяти в Польше. Текущее состояние и перспективы развития
Агата Чайковская
Таблица 1 – Контекстные измерения памяти
|
КОЛЛЕКТИВНАЯ ПАМЯТЬ (массовая) |
СОЦИАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ |
АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ (индивидуальная) |
|
|
ТВОРЕЦ |
государство (госу дарственная власть) |
гражданское общество (групповые учреждения) |
индивидуум |
|
КОНТЕКСТ |
политика памяти - инструментализация |
платформа социальных коммуникаций – обсуждение значений |
индивидуальный опыт в течение человеческой жизни |
|
ХАРАКТЕР |
институциональный |
институциональный |
внеинституциональ-ный |
|
ПЕРСПЕК ТИВА |
диахроническая |
диахронически-син-хронная (функциональная – учитывает социальные, культурные, экономические, политические влияния и др.) |
синхронная |
В этом смысле место памяти имеет строго определенную топографию, оно связано с конкретными историческими событиями, годовщины которых отмечаются в виде социальных, культурных и политически обусловленных практик [14]. Однако следует отметить, что кроме исторических мест памяти в приведенном выше понимании, существуют также другие lieux de memoire (природу которых приближает в своих работах французский историк и социолог Пьер Нора), имеющие одинаково важное значение для проблемной области, которой является педагогика памяти. Другими словами, педагогика памяти — это не та область, научные и исследовательские интересы которой охватывали бы только и исключительно места памяти в топографическом аспекте. Следуя предположениям, присутствующим в современных концепциях, касающихся мест памяти [28; 9; 10; 5], мы могли бы указать, в том числе на биографии и автобиографии, персоны, свидетельства и повествования, исторические события, социальные и культурные изменения, традиции и ценности, достижения науки, публичные дискурсы и, тем самым, на места культурно воображаемые и относящиеся – наряду с образованием в историческом месте памяти - также к автобиографическому образованию и автообразованию.
Цели педагогики памяти формулируются применительно к историческим местам, связанным со Второй мировой войной (что, вероятно, будет неизбежно еще долгое время, в основном из-за генезиса этой проблемной области). В качестве общей цели указывается обеспечение возможности получения и усвоения знаний об истории данного места с учетом общего исторического фона, а затем инициирование мыслительного процесса в контексте персон, событий и процессов. Конкретные цели связаны с активизацией и организацией когнитивного процесса и, следовательно, с созданием идей, которые могут иметь нормативное значение для внутреннего развития человека. Это должно облегчить ориентацию в мире и стимулировать социальную активность [19].
Чтобы не «закрывать» педагогику памяти в качестве образовательной практики только в музеях (Местах Памяти), а позволить ей развиваться в образовательных и социальных процессах в других учреждениях или пространствах, связанных с общественным образованием, деятельность которого охватывают компетентность как педагогов, так и социальных аниматоров, терапевтов, социальных работников или, наконец, так называемых педагогов, представляющих различные субъекты, функционирующие в области образования (например, культурные учреждения, массовые гражданские инициативы, фонды, ассоциации и т. д.), а также с учетом потенциала педагогики памяти в процессе автообразования (с особым акцентом на пути внефор-мального образования и неформального образования), стоит обратить внимание на другие возможные цели, такие как:
-
- сохранение национальных, региональных и местных традиций;
-
- открывание памяти различных групп и общин в контексте малой родины (например, профессиональных сообществ, исчезающих профессий, народных творцов и т.д.);
-
- анализ местного культурного потенциала с перспективы возможностей развития общества;
-
- укрепление местной культурной самобытности: инкультурация, ре-культурация и транскультурация;
-
- создание профессиональных компетенций и поддержка участия в местной культуре;
-
- биографика - сохранение памяти о значимых персонах (например, выдающихся педагогах, заслуженных деятелях культуры, местного сообщества, страны);
-
- развитие сотрудничества между местами памяти и образовательными, а также научными учреждениями;
-
- развитие размышлений о текущих моделях культуры, передачи ценностей от поколения к поколению на основе личностных примеров и значении авторитета;
-
- сбор свидетельств о человеческом опыте (документы, фотографии, записи, сувениры и т.д; использование изустной истории (oral history);)
-
- поддержка «вспоминательного» обучения (обучение на основе собственной биографии и биографий других людей);
-
- развитие процессов межличностного общения;
-
- поощрение самостоятельного изучения прошлого и его ценностей.
Примечание. Внеформальное образование (non–formal eduaction), также называемое внеклассным или курсовым образованием – прежде всего, позволяет приобретать или дополнять квалификацию (поэтому носит компенсационный или улучшающий характер), может дополнительно поддерживаться дистанционным образованием (то есть популярным сегодня электронным обучением e-learningiem). Всегда проходит целенаправленно, планово, осознанно и активно (что отличает его от неформального образования). Позволяет приобретать определенные знания, навыки и компетенции для использования в профессиональной, семейной, социокультурной, политической жизни или для собственного удовлетворения или личностного роста. В свою очередь, неформальное образование (informal education) – осуществляется в наших отношениях с другими людьми и через эти отношения, в условиях повседневной деятельности – и, таким образом, осуществляется в некотором роде на фоне жизни или, обращаясь к литературному описанию Вирджинии Вульф, мы можем сказать, что оно «вплетено в хлопок повседневной жизни» (cotton of life). Неформальное обучение взрослых иногда называют ситуационным обучением (situated learning), инцидентным обучением (incidential learning) или обучением на практике (action learning). По существу, это самый универсальный путь образования, присутствующий на каждом этапе нашей жизни (таким образом, он может проходить параллельно, например, с внеформаль-ным образованием).
Вышеупомянутые цели были сформулированы на основе ранее упомянутых измерений памяти (коллективной,
Педагогика (мест) памяти в Польше. Текущее состояние и перспективы развития
Агата Чайковская
социальной, индивидуальной) и ее многогранности – то есть с учетом как локального, так и глобального аспекта, который относится к созданию доступного для отдельных лиц, групп, сообществ пространства капитала памяти, служащего формированию собственной идентичности (в идеальном предположении) над всеми разделами. На этом этапе мы могли бы присвоить педагогике памяти статус образовательной концепции, которая составляет одно из измерений общественного образования (включая процессы, реализуемые в обществе, с обществом, через общество и для общества, при внешней профессиональной поддержке) [25, с. 12-14]. Как показывает Веслав Тайсс: «Она подчеркивает роль широко понимаемой образовательно-социальной деятельности в формировании активного и творческого отношения индивидов, социальных групп и местной среды в построении микромира человека. (…) Целью так понимаемого общественного образования является поиск, оценка и развитие местных культурно-социальных ресурсов, и, таким образом – формирование местной, общенациональной, а также европейской идентичности. Это достижимо, поскольку общественное образование, его задачи, области, формы и средства сосредоточены на одном: на том, что общее, что объединяет людей, сближает, способствует взаимопониманию и сотрудничеству. Это местные, и, в то же время, универсальные стандарты этики, культуры, цивилизации, связанные с такими фундаментальными ценностями, как права человека, правовое государство, демократия, гражданское общество, социальная справедливость, уважение к природе» [25, с. 12-14].
Имеющиеся на сегодняшний день исследования в области педагогики памяти показывает, что как дискурсивная категория она в значительной степени уже стала словом-ключом, которое, несмотря на сложные и важные социально-педагогические проблемы, по сути, не содержит средств выражения или форм описания, которые констатировали бы роль памяти в педагогическом мышлении. В упоминаемых перспективах отправной точкой является, с одной стороны, история (в предположениях Кранца), а с другой ею может выступать автобиография (в представлении Деметрио) [9, с.14]. Педагогичность в обоих случаях альтернативно сводится к исторической или автобиографической дидактике. Тщетно пытаться объединить их, ибо эти стратегии образовались на почве различных идей, и, хотя обе вписываются в современную конъюнктуру памяти, у них мало теоретических связей друг с другом. Между тем память в педагогике фокусируется, прежде всего, на этических проблемах. Человек учится не столько на своих ошибках, сколько на пределах своих возможностей. Если бы существовала реальная обучаемость благородному отношению, в меру мыслящего, предвосхищающего, сострадающего человека, не было бы необходимости в квазиэтиче-ском рассмотрении таких вопросов, как гонка вооружений, экологическая угроза, идеологический терроризм или бедность и нищета. Поскольку это не так, тщетно искать средство от дисгармонии в педагогических постулатах, которые коренятся исключительно в идеях порядка и добра. Если мы попытаемся выявить основную этическую проблему, фокусирующуюся на педагогичности памяти, ею могла бы быть, перефразируя слова Джидду Кришнамурти, хорошая защита от адаптации к глубоко больному обществу.
Приведенные выше примеры иллюстрируют, насколько далеко педагогика памяти сохраняет характер блуждающего понятия, вписываясь в вокабуляр нескольких областей на основе семантических косвенных улик – появления нового типа лексики и исчезновения устаревших слов. С одной стороны, в употребление входят определенные термины, применимые как к текущим процессам, так и к будущим инициативам [15] (напр. термин «музейный педагог» начинают все чаще заменять термином «воспитатель Места Памяти»). Термин «блуждающее понятие» ввел

Мике Баль, описывая блуждание понятий от одной дисциплины к другой и обратно следующим образом: «Такой путь следует определить как меж-дисциплинарный (…) Называть его трансдисциплинарным означало бы предполагать его неизменную твердость, блуждание без изменений, в свою очередь, мультидисциплинарность подразумевала бы подчинение областей обеих дисциплин общему аналитическому инструменту. Ни один из этих вариантов не имеет смысла. На каждом этапе необходимо согласование, трансформирование и переоценка» [3, с. 65].
Чтобы не потерять педагогический потенциал, который неизбежно содержится в каждой из упомянутых перспектив – как в исторической, так и в автобиографической дидактике – стоит столкнуть его с явлениями междисциплинарности и культуры, которым посвящен нижеприведенный материал.
Междисциплинарные пути памяти
Взаимопроникновение неизбежно во всех сферах человеческой жизни, и, в частности, таких, как память и наука. Память как одна из основ культуры гарантирует преемственность различных идей, примеров и мировоззрений. Это было бы невозможно без постоянного опосредования прошлого (как в материальных, так и в нематериальных формах). В настоящее время различные научные дисциплины в некоторой степени вынуждены отслеживать изменения, происходящие в других областях знаний. Это происходит с возрастающей интенсивностью, поскольку знания поступают из самых разных, иногда очень отдаленных источников. Следовательно, иногда междисциплинарность в науке — это не проявление диалога, а результат смены смыслов в результате глобальных тенденций (С нашей точки зрения, перемещение значений между различными областями знаний и науки, а также такие явления, как изменения, рубежи или парадигматические сдвиги, можно рассматривать как проявления так называемого «метода архитектонизации науки»).
Для примера, широкий спектр источников явления, которым является постпамять, позволяет указать на междисциплинарность как одно из ее свойств. Это подчеркивается путем простого процесса замещения понятий. Если заменить термин постпамять такими категориями, как традиция, идентичность, передача ценностей, обычай, представления, сознание, опыт, присутствие, культурное наследие, нетрудно заметить, что множество этих фигур также приводит к различным источникам, которые находятся во многих научных дисциплинах: истории, социологии, антропологии, философии, психологии, педагогике, а также культурологии или лингвистике, если обращаться только к наиболее важным из них.
В свою очередь, в науке междисциплинарность имеет место тогда, когда две или три дисциплины, или даже больше, вступают друг с другом во взаимные отношения, и не столько для того, чтобы просто использовать их знания, сколько для установления между ними реального диалога или подлинного обмена информацией между различными науками, с целью решения стоящей перед исследователями проблемы [21, с. 3-14].
Ни одна наука не является безлюдным и самодостаточным островом – функционировать отдельно от других, и, в то же время, процветать и становиться базой для новых открытий. Междисциплинарность, хотим мы этого или нет, необходима для баланса конкретных вопросов и указания четких понятий, которые их формируют. Только такое уравновешивание дает шанс устранить чрезмерный рост «богатства» в области отдельных наук, создавая дискурс, в котором мы имеем дело только с обрывками изначально актуальных идей. В наши дни междисциплинарность часто рассматривается как конвенция или даже тенденция, которая утвердилась в научных исследованиях. Возможно, это отчасти связано с отсутствием навыков уже упомянутого балансирования и адаптации проводимых действий к тому, что яв-
Педагогика (мест) памяти в Польше. Текущее состояние и перспективы развития
Агата Чайковская
ляется ключевым минимумом прозрачности. Стоит рассмотреть, что могло бы стать главной целью междисциплинарности. Было ли бы это построение эклектичных теорий, методологий или «фузия когнитивных горизонтов», служащая сотрудничеству, диалогу и всестороннему пониманию явлений? Было ли бы важно установить границы или нарисовать концептуальные карты, полезные только для данной научной дисциплины? Разве в этом случае изолированная наука не начала бы через некоторое время взрываться? Или, может быть, целью должна быть разработка общего языка (ведь исследователи, представляющие различные дисциплины пользуются отличной системой знаков, что определяет множественные интерпретации одних и тех же понятий), а также выбор методологии (при условии, что не в каждом проекте должна обязывать одна и та же методология, но для определенного порядка ее следует определить).
Педагогика культуры как ориентир для педагогики памяти
Нахождение взаимосвязи между педагогикой памяти и педагогикой культуры не является, вопреки видимости, простой задачей. Первая только предопределяет, по мнению некоторых авторов [26] статус педагогической субдисциплины, вторая же перешла как бы в «состояние покоя», хотя сегодня мы имеем дело со многими ее эманациями и попытками реституции. Однако стоит присмотреться к обеим областям и рассмотреть, существуют ли пространства и характеристики, которые мы могли бы трактовать как общие. Отправной точкой для наших размышлений может стать термин культура в понимании Симоны Вейль, которая описала его как: «Формирование внимания. Приобщение к сокровищам духовности и поэзии, накопленным человечеством на протяжении веков. Познание человека. Конкретное познание добра и зла» [6, с. 163].
Представленное определение не случайно остается в корреляции с философ- скими идеями Вильгельма Дильтея, восприятие которых легло в основу области, называемой педагогикой культуры, точнее «педагогикой человеческой духовности». В настоящее время мы могли бы рискнуть заявить, что педагогика культуры имеет не одно имя — ведь именно такой образ создали ее современные исследователи. Область рефлексии, которую предстоит исследовать в рамках этой дисциплины, оказывается настолько обширной, что обозначение предмета дисциплины парадоксально сомнительно, хотя и более вероятно, чем указание ее источника, которым, по-видимому, являются в основном умы исследователей. Несмотря на приведенную выше критику и независимо от того, является ли педагогика культуры наукой или практической деятельностью (Критическую позицию по отношению к современной педагогике культуры выдвинул Й. Кар-гуль, вводя две мыслительные области – науку о культуре и «педагогику культуры», которую предлагает рассматривать как предмет педагогики культуры, понимаемой как наука, а не практическая деятельность) [13, с. 67-62], она отметила свое присутствие в педагогической мысли. Свой источник она нашла в так называемой «философии жизни» Дильтея, развиваясь на рубеже XIX-XX веков. В Германии она признана парадигмой в образовательной рефлексии, которая функционировала до 60-х годов ХХ века [20, с. 222]. Указывается, что более поздние концепции являются лишь ее продолжением, однако насколько такое предположение можно принять в отношении ее источника (современная педагогика культуры иногда определяется герменевтической педагогикой), настолько трудно согласиться со ссылками на тот же предмет исследования. «Философия жизни» охватывает человека целостно, со всеми его жизненными переживаниями и измерениями, сосредоточенными в сфере духовности. Высшей функцией человеческого существа должно было быть самопознание и самопонимание, проходящее через интерпретацию объективированных форм человеческого духа, также называемых внешними выражениями, которые, согласно Дильтею, составляют именно культурные произведения [20, с. 224-227]. Можно предположить, что в этом контексте культура вместе с ее произведениями, такими как религия, обычаи, системы ценностей, искусство, архитектура, литература, наука, социальные нормы, право — это шифр, позволяющий интерпретировать жизнь и находить путь к самопониманию. Богуслав Милерский назвал это явление «герменевтическим ключом» [20, с. 220]. Он открывает калитку для процесса понимания, через расширение триады Дильтея и придание ей следующей формы: (пере-) житие – опыт – самоанализ – выражение – понимание [20, с. 226]. Подобное видение культуры предложила Вейль, акцентируя когнитивный аспект не только в отношении человека, но и теодицеи.
Среди зависимостей, возникающих между культурой и памятью, следует, прежде всего, упомянуть философские предпосылки - как память, так и культура могут представлять собой «герменевтический ключ» к познанию и пониманию мира и себя. Следующим аспектом является роль, которую обе играют в процессе воспитания. На примере пирамиды культуры Сергея Гессена [8, с.28], мы можем наметить корреляцию положительных ценностей воспитания, а также описанных ранее измерений памяти (коллективной – массовой, социальной, биографической – индивидуальной). На духовном уровне мы можем указать все трансцендентные ценности (добро, истина, красота), а рядом с ними - субъективную память (то есть личную сферу и внутреннее измерение человеческой жизни, полное субъективных впечатлений). В промежуточном слое – слое социального бытия – располагалась бы объективная память (как знание или осознание объекта в концепции Семиона Л. Франка [27, с. 96-100], отраженное в публичной сфере) рядом с субъективно-объективными ценностями культуры, такими как закон, мораль, нормы и социальные институты. Материальным слоем, и в то же время наиболее осязаемым, были бы произведения, объективированные в форме искусства, литературы, архитектуры, достижений науки и техники, а также ритуальные действия, жесты и различные формы выражения тела (все они являются полезными ценностями, которые можно отнести к своего рода памяти навыков, основанной на культурно-разнообразных телесных практиках) (Привычный и перформативный аспект памяти глубоко анализирует Пол Коннертон. Он показывает, как тело может стать носителем памяти в результате воздействия социальных практик, которыми являются описанные им практики воплощения. Это позволяет поддерживать память и традиции в нетекстуальном измерении.) [15, с. 145-195]. Опираясь на приведенные выше соображения, можно предположить, что культура предоставляет ресурсы (это могут быть, например, традиции, авторитеты, артефакты), а память гарантирует механизмы их выживания.
В качестве первостепенной цели педагогики культуры мы могли бы указать воспитание в духе уважения к положительным ценностям, описанным выше. Связующим звеном для отдельных культурных плоскостей, а также детерминантом для установления и поддержания связей (с особым акцентом на ситуации, в которых сосуществуют в культурном пространстве разные поколения) является память. Зигмунт Бауман отмечает, что до сих пор «функцией культуры во всех известных ее формах была связь мимолетности с вечным постоянством» [4, с. 25]. Слои памяти, проникающие глубоко в культуру, гарантировали устойчивость культурной среды и защищали от возникновения вакуума или даже краха определенного социального порядка. Более того, они сформировали важную основу образования, требующую прочной и постоянной поддержки. В настоящее время «способность свободно переме-
Педагогика (мест) памяти в Польше. Текущее состояние и перспективы развития
Агата Чайковская
щаться в любой среде, простота установления и разрыва контактов, ловкость в подключении к коммуникационной сети, к которой подключились, во много раз важнее приобретенных знаний и навыков» [4, с. 21]. При таком подходе мы можем трактовать уже упомянутый «герменевтический ключ» как объект, источник и инструмент познания как в педагогике культуры, так и в педагогике памяти. Обе остаются в диалектической связи и между ними происходят явные соприкосновения, в том числе особо выделяются: основные понятия жизни и понимания, роль воспитания, аксиологические основы, этическое измерение, трактовка своего предмета и действий в исторических терминах, стремление к объяснению смысла на основе исторического опыта, а также самопонимание. Также характерно, что они указывают на своеобразные аналогичные трудности в процессе воспитания, в которых одни и те же элементы могут одновременно представлять возможности и угрозы. Потенциально, каждая образовательная ситуация может определяться противоречивыми условиями или стремлениями (и это особенно сильно относится к образовательным ситуациям в местах памяти). Это похоже на заявление Ханны Арендт, которая отмечает, что: «Проблема образования в современном мире состоит в том, что по самой своей природе оно не может отказаться ни от авторитета, ни от традиций, но оно должно происходить в мире, структура которого уже не устанавливает авторитет и не связана традициями» [2, с. 231].
Между тем, образовательные процессы должны совершенствоваться с учетом изменений, происходящих в культуре и в самом человеке. По мнению Гессена, педагогический потенциал традиции не заключается в ее передаче и поддержании в неизменном виде, он признает, что: «традиция может сохраняться только тогда, когда она творчески трансформируется. Только тогда культурные блага давних поколений будут доступны и понятны последующим поколениям» [7, с. 61].
При таком подходе память может рассматриваться как фактор, который защищает культурное наследие от анахронизма, а не только служит для деконструкции прошлого. Подобные предположения отражены, среди прочего, в концепции социального реконструкционизма Теодора Брамельда [12; 16]. Он указывает на антропологические категории, в том числе кризис, диффузию, аккультурацию, ассимиляцию или открытие и инновацию, познание которых открывает педагогике неизведанные области реальности, укрепляя ее достоверность в теоретической и практической плоскостях. Другими словами, педагогика может только извлечь выгоду из обращения к антропологии и реконструкционизму, ибо их характеризует аксиологическая гомология [12, с. 21-22, 186]. Образование, особенно институциональное, имеет тенденцию терять контакт с культурой, в рамках которой оно постоянно функционирует, более того, оно не может эффективно поддерживать человека в его усилиях по самообразованию, поскольку кажется абстрагированным от «философии жизни». Чтобы иметь возможность адекватно реагировать на изменения в социальной реальности, образование должно сначала кристаллизовать свои цели (основанные на ценностях, в духе которых должно осуществляться воспитание, образование, преподавание и обучение) и пробуждать антропологически ориентированное вовлечение.
Подытоживая взаимосвязи между педагогикой культуры и педагогикой памяти, попробуем указать на их взаимодополняющие функции:
– функция передачи – поддержание и передача ценностей, произведений и культурных ценностей (включая эфирную и фактографическую память), перечисленных в «пирамиде культуры»
– когнитивная функция – открытие универсального характера образования и его роли в повседневной жизни посредством процессов преподавания и обучения, а также в измерении самопознания («обучение на основе собственной биографии»; постпамять – обучение на основе биографии других)
– функция совершенствования – обеспечение преемственности фундаментальных традиций и систем путем изменения, адаптации или нивелирования негативных культурных явлений, создающих препятствия или угрожающих дальнейшему развитию; корректировка решений с точки зрения новых трудностей, конфликтов, кризисов (например, развитие межкультурного общения, социального диалога)
– адаптивная функция – проникновение в повседневную деятельность человека таким образом, чтобы обеспечить стабилизацию и непрерывное развитие на протяжении всей жизни
– функция самореализации – признание человеческой личности как зарождающегося слоя, восприимчивого к влияниям окружающей среды (особенно «невидимой среды») и позволяющей осознанное переживание различных потребностей.
Упомянутые функции сигнализируют о необходимости включения педагогики памяти в более широкую перспективу педагогических последствий памяти. Сосредоточение внимания на преступлениях и травмах прошлого как на единственной проблемной области несет в себе риск формирования интровертной области. Между тем память не задер -жалась на территориях бывших лагерей смерти, она распространяется повсюду, следовательно, ее потенциал особенно достоин быть замеченным в развитии общегуманистического образования, в котором человек является одновременно целью, субъектом и инструментом воспитания. В свою очередь, связь памяти с областью биографики – не единствен- ная возможная форма работы с явлением в педагогическом измерении. Таким образом, для педагога память может представлять собой «кладезь» тождественных мотивов, фокусирующихся вокруг нормативного сохранения традиции, а также придания ей актуального смысла. Формирование чувства ответственности и свободы воли по отношению к событиям, происходящим и прошедшим, является большой проблемой, потому что каждое поколение руководствуется своими собственными правилами при выборе того, что стоит запомнить из прошлого, а также при определении областей контакта с памятью предыдущих поколений, как в индивидуальном измерении, так и коллективном. Асимметрия памяти в этом отношении является естественным явлением. Именно она в значительной степени формирует педагогические постулаты, относящиеся к нашим отношениям с прошлым. Их осуществлению, безусловно, не способствует рутинная практика поминовения, ибо течение времени неизбежно насыщает их возрастающей дозой абстракции или маргинализацией смыслов. То, что является абстрактным, требует поиска адекватных методов и средств выражения, которые сводятся по существу к реконструкции таких визуализаций и наполнению их содержанием не только в случаях циклических ритуалов, но особенно в повседневной жизни. Действия такого рода могут способствовать пониманию не только педагогических топосов, в свете их функционирования в группе современных реципиентов, встроенных в другую общественно-политическую оптику. Кранц метко отмечает, что память останется лишь пустой фразой, если она будет совершаться исключительно как ритуал [17, с. 26]. Поэтому в педагогической работе следует обращать внимание на роль опыта, который реконструируется на основе собственных ориентиров, а также обратной связи, вытекающей из социальных взаимодействий. Неизменно актуальными остаются в этом отноше-
Педагогика (мест) памяти в Польше. Текущее состояние и перспективы развития
Агата Чайковская
нии принципы Джона Дьюи, подчеркивающие обучение через действие и опыт, педагогический индивидуализм и образование в духе демократии (Большинство образовательных центров, которые в настоящее время работают с памятью, используют все детализированные формы деятельности, иногда расширяя их за счет межкультурного обмена опытом) [11, с. 121-122, 126]. Обращение ко всем видам топосов, особенно при поддержке автообразовательных усилий, требует потенциально всестороннего представления их источников и содержания таким образом, чтобы можно было критически сформулировать свои собственные взгляды и признать, что топосы коммерциализированы массовой культурой, ибо то, что было реконструировано культурой, порождает не столько незнание, сколько не-возможность знания.
Таким образом, реляционный характер обсуждаемых вопросов позволяет считывать педагогику памяти не столько как академическую субдисциплину, а скорее как одну из множества возможных рефлексий, сфокусированных на воспитании, образовании, преподавании и обучении. Ибо она расположена на оси своеобразного континуума, концы которого обозначают соответственно: историческую рефлексию в педагогике и педагогическую рефлексию в истории, являющиеся ориентирами как для построения теории, так и для осуществления практической деятельности. Эта точка зрения также поддерживается возвратом памяти [23] связанным с феноменом memory boom , то есть повышенным интересом как к глобальным, так и к локальным «представлениям» памяти в научном и общественном дискурсе. Упомянутый возврат памяти следует понимать как форму изменения, реорганизующего область интересов многих дисциплин, с акцентом на культурные науки, из которых она берет свое начало. Таким образом, это культурное изменение, хотя оно также исследует периферийные предметные области в дисциплинарном плане.
С другой стороны, если мы хотим поддерживать относительное название педагогики памяти как академической субдисциплины, мы должны помнить о нескольких важных предпосылках. Во-первых, как указывает Стефан Амстердамски, специализация исследований в рамках данной дисциплины или появление новых дисциплин вынуждает создавать исследовательские группы, состоящие из мастера и студентов или сотрудников, занимающихся одной и той же проблематикой [1, с. 162]. Во-вторых, как доказывает Славомир Штобрин, исследования в рамках данной дисциплины имеют своеобразную иерархическую структуру, ибо начинаются с поиска новых, еще малоизвестных областей и часто (...) предпринимаются учеными отличных от педагогики дисциплин. Следующим шагом в развитии области исследований является ее институционализация, возникновение, например, кафедр и коллективов, занимающихся конкретными исследованиями. На следующем этапе развития дисциплины эти команды стремятся определить ее основные проблемы и объем исследований. Наконец, наступает время для своеобразной саморефлексии, создания основ и закрепления парадигмы, установления собственных методов исследования и проведения метаисторических исследований [29, с. 295-307].
Таким образом, текущее состояние проблемной области, которой является педагогика памяти, связанная, в первую очередь, с образовательной практикой, не представляет достаточных предпосылок для дисциплинарной независимости, особенно в вопросе специализации исследований (достаточно с большей внимательностью проследить литературу предмета). Тем не менее, это пробел, который можно заполнить, и, принимая во внимание активизацию возврата памяти в гуманитарных науках, такая перспектива, безусловно, не исключена.
Социальные и гуманитарные науки не могли бы развиваться без импульса

и стимула в виде памяти. Плоскость человеческих представлений провоцирует на размышления, действия, попытки осмыслить реально происходящие ситуации. Будущее, столь увлекательное в данный момент, не является единственным вопросом, заслуживающим внимания. Каждый человек функционирует ежедневно благодаря широко понимаемой памяти. Она является самым податливым инструментом, формирующим человеческую личность. Формирование дара внимания при современном темпе жизни свидетельствует о его смысле, чего люди, похоже, не замечают. Именно в этом явлении можно проследить педагогичность памяти, которая становится функцией современной памяти. Таким образом, задача настоящего заключается в формировании внимания. Роль памяти может заключаться в том, чтобы показать диапазон (авто)образовательных возможностей и способности направлять их, пробуждать критическое мышление и формулировать независимые, сознательные суждения при принятии на себя ответственности за них. Институциональные формы памяти и осуществляемая ими образовательная деятельность не всегда способны выполнять эту функцию по отношению ко всем группам реципиентов. В значительной степени то, как мы используем память, зависит от нас самих и нашей рефлексии, вытекающей из нашего опыта. Аналогичный вопрос, который можно задать себе при посещении места памяти в отношении любой ситуации, которая затрагивает нашу идентичность – почему я здесь? В этом отношении память — это мост, который позволяет индивидуумам более полно понимать процессы, происходящие в культуре и образовании, а также определять свое место и роль в мире.
Список литературы Педагогика (мест) памяти в Польше. Текущее состояние и перспективы развития
- Амстердамский С. Наука // Энциклопедия польской культуры XX века / ред. А. Клосковская. – Вроцлав, 1991.
- Арендт Х. Кризис образования // Между прошлым и будущим временем. Восемь упражнений из политической мысли, Х. Арендт. – Варшава, 1994.
- Баль М. Блуждающие понятия в гуманитарных науках. Краткое руководство. – Варшава, 2012.
- Бауман З. Вечность в беде, или о педагогических вызовах текучей современности // «Современность – Человек – Образование. Ежеквартальный журнал социально-педагогической мысли». – 2001, № специальный.
- Беднарек С., Коженевский Б. Польские места памяти. История топоса свободы. –Варшава, 2014.
- Вейль С. Мысли. – Варшава. 1985.
- Гессен С. О противоречиях и единстве воспитания. Вопросы персоналистической педагогики. – Варшава, 1997.
- Гессен С. Философия – Культура – Воспитание. – Вроцлав, 1973.
- Деметрио Д. Педагогика памяти. – Лодзь, 2008;
- Деметрио Д. Педагогика памяти. Для себя и других. – Рим, Мельтеми, 1998.
- Дьюи Дж. Демократия и воспитание: введение в философию воспитания. – Вроцлав, 1972.
- Зелинска – Костыло Х. Реконструктивистская концепция социальных изменений через образование. Педагогическая антропология Теодора Брамельда. – Торунь, 2005.
- Каргуль Й. Педагогика культуры против педагогии культуры // Гуманистическая и антропологическая эволюция педагогики культуры. Последствия для теории и практики / ред. Й. Гайда. – Краков, 2009.
- Коннертон П. Как помнит общественность. – Варшава, 2012.
- Коннертон П. Как помнят общества. – Варшава, 2012.
- Костыло Х. Социальный реконструкционизм. Возможность сознательных социальных и личных изменений // «Андрагогический ежегодник». – Варшава-Плоцк, 2009.
- Кранц Т. Историческое образование в местах памяти. Контур проблематики, Ассоциация «Диалог и сотрудничество». – Люблин, 2002.
- Кранц Т. Педагогика памяти // Pro Memoria. – 2005. – № 23
- Кранц Т. Педагогика памяти как форма музейного образования // Человек и проблемы. – 2014.
- Милерский Б. Педагогика культуры // Педагогика. Академическое руководство. Т.1 / ред. З. Кветинский, Б. Сливерский. – Варшава, 2009.
- Новак М. Междисциплинарный диалог и его модели в педагогической практике // Общественные Слушания. –2010. – № I (IV).
- Рубаха К. Образование как предмет педагогики и ее субдисциплин // Педагогика: академический учебник: в 2 т. / под. науч. ред. З. Квецинского, Б. Сливерского. – Варшава: Научное гос. изд-во, 2003.
- Сариуш-Вольска М., Траба Р. Modi memorandi Лексикон культуры памяти. – Варшава, 2014.
- Современность – Человек – Образование // Ежеквартальный журнал социально-педагогической мысли. – 2016. – Т. 19. – № 4(76).
- Тайсс В. Общественное образование – введение // Образование и анимация в местной среде, ред. В. Тайсс, B. Скжипчак. – Варшава, 2006.
- Фиц М. Образовательное измерение мест памяти // Спектр памяти / ред. Й. Курек, К. Малишевский. – Хожув, 2010.
- Франк С.Л. О памяти // Спектры памяти / под ред. Я. Курек, К. Малишевский, Городской Дом Культуры «Баторий». – Хожув, 2010.
- Шпотинский А. Места памяти. Боруссия. –2003. – 29
- Штобрин С. Образовательная историография и ее методология. Избранные вопросы // Основы методологии исследований в педагогике / ред. С. Палька. – Гданьск, 2010.
- Казмерская К. Биография и память. На примере поколений, переживших Холокост. – Краков, 2008.
- Connerton P., Seven Types of Forgetting // Memory Studies. – 2008. – № 1.