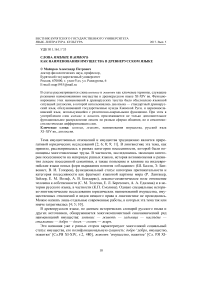Слова имъние и животь как наименование имущества в древнерусском языке
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются слова имтние и животъ как ключевые термины, служащие родовыми наименованиями имущества в древнерусском языке XI-XIV вв. Функционирование этих наименований в древнерусских текстах было обусловлено языковой ситуацией диглоссии, в которой использовались два языка - стандартный древнерусский язык, обслуживавший государственные нужды Киевской Руси, и церковнославянский язык, использующийся с религиозно-сакральными функциями. При этом в употреблении слов имтние и животъ прослеживается не только дополнительное функциональное распределение лексем по разным сферам общения, но и семантико-стилистическая дифференциация слов.
Имъние, животъ, наименования имущества, русский язык xi-xiv вв., диглоссия
Короткий адрес: https://sciup.org/148317667
IDR: 148317667 | УДК: 811.161.1
Текст научной статьи Слова имъние и животь как наименование имущества в древнерусском языке
Тема имущественных отношений и имущества традиционно является прерогативой юридических исследований [2; 6; 8; 9; 11]. В лингвистике эта тема, как правило, рассматривалась в рамках категории посессивности, которой были посвящены многочисленные труды. В частности, исследовались эволюция категории посессивности на материале разных языков, история возникновения и развития лексем посессивной семантики, а также появление и влияние на индоевропейские языки новых форм выражения понятия «обладание» (Ш. Балли, Э. Бен-венист, В. И. Топоров), функциональный статус категории притяжательности и категория посессивности как фрагмент языковой картины мира (Р. Лангакер, Зейлер, Е. М. Вольф, А. В. Бондарко), лексико-семантическое поле отношение человека к собственности (С. М. Толстая, Е. Л. Березович, А. А. Едалина) и в истории русского языка, в частности (К.П. Смолина). Однако специальные историко-лингвистические исследования юридических наименований имущества, имущественных отношений и видов вещного права в лингвистике не проводились. Можно назвать лишь отдельные современные работы, в которых эта тема так или иначе затрагивалась [4; 5; 10].
В древнерусском языке, по данным исторических словарей русского языка и других источников, обнаруживается многокомпонентный синонимический ряд наименований имущества: имѣниѥ — животъ — задьница — наслѣдие — стѧжаниѥ — добро — домъ — скотъ — жиръ .
Эти названия уже с разных сторон характеризуют многоликий социальный статус имущества, его полифункциональную сущность: добро ‘добро, имущество, пожитки’ [Сл.РЯ XI-XIV, т.2, 480], животъ ‘имущество, нажитое’ [Сл. РЯ XI-
XIV, т. 3, 258], жиръ3 ‘богатство, довольство’ [Сл. РЯ XI–XVII, вып. 5, 113], имѣниѥ ‘имущество, состояние’ [Сл.РЯ XI-XIV, т.4, 148-149], скотъ ‘имущество; деньги’ [Сл. РЯ XI-XVII, вып.25. 7], стяжание ‘имущество, собственность, богатство; тж. образно’ [Сл. РЯ XI-XVII, вып.28, 230]. Особо следует выделить группу терминов наследственного права — задьница ‘наследство’ [Сл. РЯ XIXIV, т.3, 300], беззадьщина ‘выморочное имение’ [Сл. РЯ XI-XIV, т.1, 118], без-задьница ‘имущество, оставшееся после смерти владельца, у которого нет прямых наследников’ [Сл.РЯ XI-XIV, т.1, 118], домъ ‘имущество, достаток’ [Сл. РЯ XI-XIV, т.3, 50], [подробнее см. Киржаева].
В древнерусском обществе правового понятия имущества еще не существовало; Киевская Русь не знала рецепций римского права, и имущественные отношения регулировались нормами обычного права, т.е. с опорой на обыденное и довольно размытое с современной точки зрения представление о вещном праве. В языке той эпохи номинация имущества в юридическом аспекте, несмотря на относительное разнообразие его характеристик, еще не отражает сложных общественно-экономических отношений, поскольку в ней преобладает «начало личной, материальной власти человека над природой» [8].
Проблема рассмотрения наименований имущества древнерусской эпохи усугубляется тем, что языковая ситуация в Киевской Руси была своеобразной; в ней использовались два языка — стандартный древнерусский язык, обслуживавший государственные нужды Киевской Руси, и церковнославянский язык, использующийся с религиозно-сакральными функциями, что неизбежным образом отражалось на функционировании родовых наименований имущества.
В первую очередь это отражается на различных по происхождению ключевых терминах животъ и имѣниѥ , из которых первое — русское, второе — старославянское (церковнославянское) слово.
Некоторые ученые рассматривают церковнославянские и русские термины как коррелянтные пары при наименовании одного и того же понятия в условиях церковнославянско-русской диглоссии в Киевской Руси [3, с.49-50; 13, 106-107]. Например:
|
церковнослав. |
рус. |
|
законъ |
правда |
|
убииство |
головщина |
|
рабъ |
робъ, холопъ |
|
свѣдѣтель |
послухъ |
|
имѣние, стѧжание |
домъ, животъ |
|
наслѣдие |
задьница |
Особо подчеркивается, что сферы употребления генетически разнородных слов распределены так, что русские термины не встречаются в церковнославянских юридических памятниках, а церковнославянские — в русских юридических кодексах [13, с.106].
Следует заметить, что диглоссийное распределение рассматриваемых наименований имущества прослеживается шире, не ограничиваясь текстами юридического характера. Наблюдается довольно последовательная дистрибуция употребления слова животъ в текстах деловой и бытовой письменности (грамотах, грамотках, уставах, законодательных сводах), а слова имѣниѥ — преимущественно в книжно-славянских текстах (канонических священных текстах, житиях, кормчих книгах, летописях, изборниках — прологах, патериках, пчелах и т. п.).
Например, термин животъ употребителен в грамотах и уставах:
а се црковныи судъ … пошибанье умычка промежъ мужемъ и женою о жи-вотѣ въ племени или въ сватьствѣ поимуться (УВлад. сп. сер. XIV в.); — А мнѣ что дал князь великии изъ Олексѣева живота , того ми Олексѣю не давати (Моск. Гр. 1350-1351); — Се азъ рабъ бжиi Мосии пишю рукописаниѥ при своѥмъ жи-вотѣ а приказываю животъ свои дѣтемъ своимъ (Новг.берест.гр №519, кон. XIV).
С другой стороны, слово имѣниѥ предпочтительнее в летописях и житиях:
приимъшеи бо власть и имѣниѥ отъ кнѧзѧ своего (Изб., 1076); и имѣнья движимаго же и недвижимаго полагати в залогъ (КР, 1284); сътѧжалъ имѣния немало (ЖФП, XII); И розда убогым имѣние свое: все золото и серебро и каме-ние дорогое, и поясы золотыи отца своего и серебряные, и свое, иже бяше по от-ци своемь стѧжалъ, все розда (Гал.-Вол.лет., XIII), сице даю цркви сеи стѣи от имѣнья моего и отъ градъ моихъ десѧтую часть (ЛЛ, 1377).
Наблюдая за употреблением слов имѣние и животъ в древнерусских текстах, следует согласиться с В.А.Томсиновым в том, что изначальное использование данных слов в разных сферах общения предопределило разницу в значениях лексических единиц. Как справедливо указывает видный специалист в области истории русской юриспруденции, «различия в происхождении и в предназначении между использовавшимися для выражения юридических понятий терминами церковнославянского языка, с одной стороны, и терминами русского языка, с другой, неизбежно влекли за собой существенные расхождения и в их значениях» [11, с.86]. Ученый дискутирует с В. М. Живовым, Б. А. Успенским, а также с Б. О. Унбегауном, который еще в 60-х гг. 20-го века высказывал мнение о том, что церковнославянский язык был исключен из области древнерусского права и судопроизводства [12, с.179], и на примере церковнославянского термина законъ и русского правда показывает различие в значениях двух слов.
Об изначальном различии в семантике слов имение и животъ свидетельствует внутренняя форма той и другой лексемы, исторически связанная с признаком, который был положен в основу номинации определенных видов имущества и в той или иной мере сохранился в лексической структуре слова.
Наиболее прозрачна внутренняя форма слова имение, в которой семантический признак ‘иметь’ характеризует имущество как таковое, движимое и недвижимое. Данный семантический признак отражает обобщенное представление имущества у древнерусских людей; абстрактный характер значения слова связан еще с тем, что в церковнославянских текстах семантика слова имение интенсивно насыщалась дополнительными смысловыми коннотациями христианского вероисповедания. Имущество, обозначаемое словом имение, понималось как совокупность материальных благ, которыми владеют люди на земле, как символ тленных земных богатств в противоположность духовным ценностям, сосредоточенным в христианской религии. В священных текстах эта антиномия проводится красной нитью: Не собирайте себе сокровищ на земле, … но собирайте себе сокровища на небе (Ев. от Луки); богатство человеческое именьемъ познается, а вера же нравом его (Пч., к.XIV); страненъ сыи и не озобиленъ. но нищь именьемъ. многы же обогатити духовне (ГБ, XIV).
Глубоко религиозные люди, подвижники христианской веры бегут имения как некоего соблазна: оставившее мира и яже в мире родителю и чада и имение житииское (ФСт XIV). Имение расценивается как Божий дар ( богатворное имение ): оно передается по наследству ( понеже изволилъ еси моего имения наслед-никъ быти (ЖВИ XIV), но может при этом передаваться в дар церкви ( сице даю церкви сеи святеи Бци от именья моего (ЛЛ, 1377), в пожертвование ( приведи к жертвеннику волъ твои ... и иная именья твоя (СбУв XIV), раздаваться убогим (розда имение убогымъ XIV ) и т.п. Понятие имения, с одной стороны, ассоциируется с изобилием, богатством, преумножением: бещисленое имение, имение многоценное и неизчетное , но, с другой стороны, содержит негативную религиозно-этическую оценку имущества: подчеркивается тленность имущества, которым люди владеют в земной жизни ( расточи имение ), его принадлежность несправедливым людям ( имение неправьдьныихъ ).
В отличие от термина имение лексема животъ выступает преимущественно в роли юридического названия движимого имущества, принадлежащего, как правило, отдельному лицу. Внутренняя форма слова подсказывает, что в основе слова животъ , равно как исторически однокоренного жиръ, лежит корень с семой ‘жить’. Неслучайно в русском языке XI-XVIII вв. первым и основным у слова животъ было значение ‘жизнь’, с которым живая ассоциативная связь значения имущества, жизненно важного для его владельца, сохраняется. Редкий пример употребления древнерусского слова в одном контексте в обоих значениях, на мой взгляд, подтверждает актуальность этой связи:
Се азъ рабъ бжиi Мосии пишю рукописаниѥ при своѥмъ животѣ а приказываю животъ свои дѣтемъ своимъ (Новг.берест.гр. №519, кон. XIV).
Признак движимого имущества у слова животъ хорошо иллюстрируется примерами из древнерусских деловых текстов:
А цо было живота твоего то все взяли (Новг.берест.гр., гр.135), а безъ другого коня животъ пометалъ, а иное розронялъ (там же).
Лексическая синтагматика пометати животъ, взяти животъ однозначно указывает на возможность перемещать принадлежащие субъекту владения вещи (бросить пометать , передать кому-л. и т.п.) — то, что называется животомъ .
Таким образом, в системе наименований имущества слова имение и животъ находятся в привативной оппозиции, в которой слово животъ отмечено наличием признака ‘движимое имущество’, в то время как имение служит более обобщенным наименованием имущества — как движимого, так и недвижимого. Однако главное системное противопоставление терминов состоит в том, что оно маркировано стилистически: книжно-славянское слово имение — термин хри- стианской сферы, животъ — слово профанное, употребительное в памятниках деловой письменности. Собственно, фактор диглоссии предопределил терминологизацию слова животъ в юридической сфере, предоставлявшей функциональные преференции для восточнославянских лексем в роли юридических терминов и закрытой в этом отношении для церковнославянизмов. Впоследствии сформировавшееся в эпоху Киевской Руси диглоссийное противопоставление наименований имущества имение и животъ сохранится вплоть до семнадцатого столетия. При этом в связи с совершенствованием института права собственности и появлением в имущественной сфере новых юридических понятий семантика термина животъ будет расширяться.
Список литературы Слова имъние и животь как наименование имущества в древнерусском языке
- Виноградова Н. Г. Категория обладания и ее языковая онтология в современном немецком языке: автореф.. канд. филол. наук. Иркутск, 2001.
- Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права // http://statehistory.ru/books/Mikhail-Vladimirskiy-Budanov_Obzor-istorii-russkogo-prava/44
- Живов В. М. История русского права как лингвосемиотическая проблема // Semiotics and the History of Culture: In Honor of Jurij Lotman. Ed. by M. Halle et al. Columbus, 1988.
- Карпенко Л. Б. О роли церковнославянской традиции в развитии лексики русского права // Вестник СпбГУ. Сер.9. Филология. Востоковедение. Журналистика. 2016. Вып.1. С.70-77.
- Киржаева В. П. Термины наследственного права в договорах русских с греками и Русской Правде: к проблеме функционально-семантических и деривационных отношений // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 2. Языкознание. 2014. №5 (24). С. 7-15.