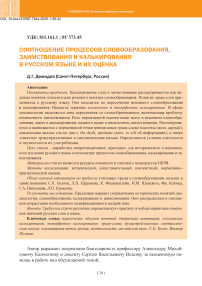Соотношение процессов словообразования, заимствования и калькирования в русском языке и их оценка
Автор: Демидов Д.Г.
Журнал: Сибирский филологический форум @sibfil
Рубрика: Актуальные проблемы языкознания
Статья в выпуске: 1 (30), 2025 года.
Бесплатный доступ
Постановка проблемы. Калькирование слов и заимствование рассматриваются как видовые понятия относительно родового понятия словообразования. Понятие эрзац-слов применяется к русскому языку. Оно находится на пересечении исконного словообразования и калькирования. Вводятся термины лексическое и поморфемное калькирование. В сфере лексикологии выделяется зона пересечения со словообразованием, включающая проблему иноязычного заимствования. Роль нормативной оценки ниже всего в исконном словообразовании, выше в калькировании, намного выше в иноязычном заимствовании. Рассматриваются и оцениваются с нормативной точки зрения новое эрзац-слово повестка (англ. agenda), лексические кальки сделка (англ. the deal), продать (англ. to sell об информации), а также этикетное эрзац-предложение и синтаксическая калька. Определяются условия уместности и неуместности их употребления. Цель статьи - выработать непротиворечивое, пригодное для исторического и нормативного изучения русского языка соотношение процессов словообразования, калькирования и заимствования. Материалом статьи являются ресурсы основного и газетного подкорпусов НКРЯ.
Пересечение объемов понятий, вторичная мотивация, лексическое калькирование, поморфемное калькирование, эрзац-слова, эрзац-предложение, синтаксическая калька, нормативная точка зрения, ментальность, английский язык, с.к. булич, виктор пелевин
Короткий адрес: https://sciup.org/144163412
IDR: 144163412 | УДК: 811.161.1 | DOI: 10.24412/2587-7844-2025-1-28-44
Текст научной статьи Соотношение процессов словообразования, заимствования и калькирования в русском языке и их оценка
Автор выражает искреннюю благодарность профессору Александру Михайловичу Камчатнову и доценту Сергею Васильевичу Власову за неоценимую помощь в работе над обсуждаемой темой.
П остановка проблемы . Объемы научных понятий, особенно в гуманитарных науках, могут частично пересекаться, поэтому для дальнейших исследований очень важно вновь уяснить признаки их содержания и их общие зоны взаимного пересечения. Стремление к механическому разделению исходных понятий с устранением таких зон приводит к грубому искажению реальной картины живой развивающейся стихии языка и нарциссическому изучению собственноручно сконструированной модели вместо предмета, лежащего вне исследователя, – русского языка. В отличие от математики, языкознание имеет дело с культурно значимым объектом, обладающим ценностью, поэтому результаты изучения узуса и системы, добытые с объективной точки зрения , следует расширять общественно значимыми выводами с нормативной точки зрения [Пешковский, 1925], оценивая одно как приятное, красивое, правильное, уместное, допустимое, полезное, другое как терпимое, нерекомендуемое, недопустимое, неправильное, вредное, безобразное или даже запрещенное, оскорбительное и наказуемое.
Обзор научной литературы. По существу основного вопроса словообразования, как были образованы (порождены) слова , «...деление способов на синхронические и диахронические не оправдано, так как все производные слова, независимо от того, каким способом они образованы, являются результатом словообразовательных процессов и поэтому находятся в одинаковых отношениях к современной словообразовательной системе» [Николаев, 2010, с. 23]. Следовательно, чтобы узнать, как образованы современные слова, надо знать и когда они образованы, по крайней мере, относительно своих производящих. Словообразовательная система выстраивается за счет первичных мотивационных отношений (включая случаи иностранных мотивирующих слов), порождающих реальные словообразовательные связи, и вторичных мотивационных отношений, не совпадающих с ними, но образующих потенциальные словообразовательные связи, со временем способные реализоваться в языке и повышать свою продуктивность, вплоть до подавления продуктивности первичных. Так, первичные отношения «имя > глагол» ( ловъ > ловити, боръ > беру ) вытесняются вторичными «глагол > имя» ( ловити > ловля, призывать > призыв ). Важнейшими в этой системе являются не парадигматические или синтагматические связи, а деривационные [Добродомов, Камчатнов, с. 18]. Словообразовательная модель зарождается, переживает повышение своей продуктивности, образование следующего звена, процесс выпадения среднего звена своей словообразовательной цепи (напр., уловити > улавляти > улавливать , см. [Демидов, Камчатнов, 2019]), переразло-жение, опрощение и отпочкование вторичных моделей, включая конфиксальные, наконец, угасание творческой энергии в порождении новых слов вплоть до морфологического опрощения, то есть перехода словообразовательного аффикса в формообразовательный, или вплоть до распада полисемии, утраты каких бы то ни было мотивационных связей с производящим.
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2025. № 1 (30)
Указанных В.В. Виноградовым способов словообразования вовсе не достаточно, чтобы ответить на основной вопрос словообразования. Существует множество случаев, при которых производящее слово находится в иностранном языке. Если слово переносится в русский язык целиком, его внешняя звуковая форма вместе со значением, то говорят о заимствовании. Если в русский язык переносится только значение, то есть внутренняя форма, а внешняя звуковая форма, хотя бы в корне, подбирается своя, то говорят о калькировании.
Перенос в русский язык сразу всей иностранной внутренней формы как готового значения слова обычно называется семантическим калькированием (о недостатке этого терминологического сочетания см. ниже). Калькирование с последовательным переводом морфем производного в языке-источнике слова или хотя бы его корня, то есть внутренней формы внутренней формы (представления значения, по Потебне) и внешнего оформления слова в русском языке каким-либо иным способом называется в русской языковедческой традиции словообразовательным . Однако если калькирование в части образования новых слов признавать целиком способом словообразования, как это делается в настоящей статье, то приходится терминологическое сочетание словообразовательное калькирование расценивать как неудачное, поскольку семантическое калькирование в этом случае будет тоже словообразовательным по определению.
В разделении калькирования слов на семантическое и словообразовательное , при родовом для калькирования слов понятии словообразования, не выдерживает критики и определение семантическое . Калькирование слов по морфемам есть также семантическое: корень и, как правило, аффиксальные морфемы переводятся согласно их семантике. Дело здесь не в плане содержания, а в плане выражения, поэтому перевод и распространение в своем языке иностранного слова целиком, придающее известному русскому слову новое значение, целесообразнее назвать лексическим калькированием , а перевод по морфемам – поморфемным калькированием . Даже если переводится один корень, а аффиксы передаются по-другому или вовсе не передаются (такое бывает при неточном калькировании), передача смысла происходит от иностранного корня к русскому, то есть тоже по морфемам, а не от слова к слову.
Появившееся в последнее время сочетание морфемная калька [Крысин, 2012, с. 55] обладает тем же недостатком, что и словообразовательная . Она вообще не указывает на результат калькирования – новое слово в русском языке, а указывает лишь на возможность перевода морфем без создания нового слова в русском языке. Единственный случай, который можно было бы так назвать, связан с сохранением иностранной основы и переводом аффикса, например, стабилизирование (англ. stabilization ) , монтажник (фр. le monteur ). Но такие слова невозможно отнести даже к полукалькам, поскольку они представляют собой результат совсем другого процесса - не калькирования, а заимствования, не только освоенного в морфологическом отношении, но и включенного в систему собственно русского словообразования: стабилизировать > стабилизирование, монтаж > монтажник .
Это русские по образованию слова с заимствованной основой. Практически бывает очень трудно, а иногда и невозможно установить, является ли образование типа монтажник заимствованием с русским словообразовательным оформлением, то есть случаем, лежащим на пересечении заимствования и поморфемного калькирования, или же новое слово образовалось целиком в русском языке независимо от иностранного, и лишь его производящая основа заимствована. Нам представляется, что в большом числе случаев словообразовательные пары типа революция > революционный на поверку представляют собой иные пары – типа фр. révolutionnaire > революционный . И действительно, судя по НКРЯ, первым, кто ввел в русский язык это прилагательное, был А.С. Шишков, описывая события Великой французской революции в сочетаниях революционное французское правительство, революционные войска, революционные ужасы и мерзости . Наш знаменитый пурист допускал иностранные слова с отрицательной коннотацией.
Описанный выше довольно распространенный случай образования новых слов лежит на пересечении основной исконнорусской части системы словообразования (со стороны формантов) и части заимствования иноязычных слов (со стороны производящих основ). В русистике такое состояние рассматривается как одна из последних стадий освоения иноязычных заимствований. Такие древние заимствования общеславянской эпохи, как семитизм кумиръ , гре-ко-латинизм мята , или латинизм баня , или китайское сочетание, проникшее через тюркское посредство, кънига , или тюркизм капище , или персидское слово, пришедшее к славянам через тюркское посредство, чертогъ , или германизм хлѣбъ, вполне можно расценивать как полностью освоенные с субъективной точки зрения, прошедшие все стадии освоения заимствований, но мы обязаны рассматривать эти же слова как иноязычные заимствования древнейшей эпохи с объективной точки зрения.
Поскольку сама русская словообразовательная система высоко «морфологизирована» в том смысле, что многие продуктивные словообразовательные аффиксы приобретают единственно возможное морфологическое оформление (- ост ( ь ) - только по ж. роду 3-го скл., - ьств ( о ) - только по ср. роду 1-го скл., - от ( а ) - только по ж. роду 2-го скл., - ова ( ть ) - только по 1-му спр. и т.п.), процесс заимствования часто связан не с постепенным фонетическим, морфологическим, наконец, словообразовательным освоением иноязычных слов, а с появлением первых же употреблений таких слов со своими иноязычными производящими сразу во вполне освоенном в словообразовательном отношении виде, например лат. stabilis > стабильный . Латинский формант -bilis передается русским формантом - бильный , включащим вариант суффикса - ьн -, представляющий собой результат опрощения латинского по происхождению и славяно-русского суффиксов - бил - ьн -. Процесс заимствования связан не только с индивидуальной лексической историей слова, его переходом из одного языка в другой, но и с взаимодействием словообразовательных систем двух языков. Это еще одна проблема, лежащая на пересечении собственно русского словообразования и заимствования.
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2025. № 1 (30)
Первым, кто задолго до Ш. Балли разграничил у нас факты заимствования и поморфемных и фразеологических калек с латинского, немецкого и французского, был, по нашим наблюдениям, С.К. Булич, излагая существо дела, но не подыскивая термина. Он привел в пример поморфемные кальки выглядеть , влияние, предмет, обстоятельство , трогательный , немыслимый , сосредоточить , начитанный , развитие , утонченный , осмотрительный , предусмотрительный и фразеологические кальки раз я берусь сделать то и то – я сделаю , делать кого несчастным , считаться с чем, рассчитывать на кого или что, хранить молчание , проходить (и, добавим от себя, обходить. – Д.Д. ) молчанием , иметь жестокость , предпослать что чему, иметь что-нибудь против , быть слишком добрым или умным, чтобы … иметь что сказать или возразить , разделять чьи чувства или мысли [Булич, 1893, с. 19–22].
С.К. Булич, К. Флекенштейн1 и другие ученые считают кальки разновидностью заимствования, другие выделяют словесные кальки в качестве особого третьего разряда лексики по своему происхождению, наряду с исконным и заимствованным [Ефремов, 1974], третьи уверенно относят кальки к исконной по происхождению лексике [Шанский, 1955]. Такой разнобой реализует все три логически возможных варианта решения вопроса о взаимно пересекающихся объемах понятий заимствования и исконного словообразования. Относительно позднее выделение калькирования в истории европейского языкознания связано именно с тем, что это явление занимает именно зону пересечения исконного словообразования и заимствования. Калькирование слов входит в понятие заимствования с ономасиологической точки зрения и входит в понятие исконного словообразования с семасиологической точки зрения. Л.П. Ефремов разрешает это противоречие путем повышения статуса понятия калькирования слов с видового на родовой. Это помогает осмыслить специфику процесса.
Результаты и обсуждение . С нашей точки зрения, видовые понятия исконного словообразования, калькирования слов и заимствования входят в родовое понятие словообразования. Оно, в свою очередь, имеет зоны взаимного пересечения с морфологией и лексикологией. В лексикологии традиционно рассматривается вопрос о происхождении слов. Он лежит в зоне пересечения лексикологии и словообразования. В связи с этим нет непреодолимых препятствий против того, чтобы считать калькирование слов и заимствование способами словообразования.
Вопрос о развитии полисемии также занимает зону пересечения словообразования и лексикологии. Это было известно давно, с тех пор как академика В.В. Виноградов ввел лексико-семантический способ словообразования. В эту зону пересечения входит и лексическое калькирование, и растянутый на многие десятилетия процесс заимствования. Так, слово партизан, последовательно развивавшее в русском языке военное и дипломатическое значения, с начала XIX в. стало все шире употребляться в обобщенном французском значении ‘сторонник вообще’ - какой-нибудь политической силы, партии, направления в науке или науке. Однако это, логически родовое и претендующее на синхронное положение основного, значение с начала ХХ в. стало стремительно уходить из русского литературного языка, видимо, в связи с резким уменьшением числа носителей русско-французского двуязычия, и оказалось семантическим архаизмом. Тем более забылось и дипломатическое значение сторонника того или иного монарха. На первое место, в связи с двумя мировыми войнами, в ХХ в. вышло военное значение. Этот пример показывает, что процесс освоения заимствования, в данном случае семантического освоения, связан не обязательно с постоянным расширением функций иноязычного слова и придания ему все более и более исконного вида в русском языке. Может происходить и обратный процесс очищения, специализации, устранения полисемии в семантической структуре заимствования.
Полезные лексические кальки, принятые говорящим коллективным субъектом – русским народом, могут входить в область исконного словообразования. Так, в первое время появления полезного приспособления для работы с персональной ЭВМ оно называлось мышью (англ. mouse ). Происходит обычное лексическое калькирование. Однако со временем, как показывают данные НКРЯ, русское уменьшительное производное мышка стало все более вытеснять первоначальный вариант мышь , сначала в разговорной речи, затем в торговой и специальной сферах среди профессионалов, в том числе в официально-деловом стиле. Мы живем в период активного вытеснения русским производным мышка первоначально калькированного слова мышь.
На пересечении калькирования и семантического развития исконных слов находится явление, названное в 1910-е гг. в германистике «эрзац-словами». В русле пуристической тенденции «онемечивания» французских заимствований с XVII в. составлялись слова или известным немецким словам приписывались значения попавших в немецкий язык французских слов. Например, слово Register заменялось на Inhaltsverzeichnis , буквально ‘обозначение содержания’ [Keinz, 1974, S. 350], затем просто Inhalt ‘содержание’ - слово, прочно закрепившееся в современном немецком для обозначения оглавления, содержания книги. В конце концов, благодаря французскому слову, в немецком слове Inhalt появилось новое значение, но ему предшествовало описательное сложное слово, впервые появившееся в переписке Гете и Шиллера. Схожая история происходила и при замене итальянского слова innamorarsi на русское влюбиться или французского слова partisan на русское приверженец (подробности излагаются в статьях, написанных совместно с С.В. Власовым и А.М. Камчатновым). Если в немецком языке заменялись уже проникшие было французские слова, то в русском языке этот процесс проходил и без проникновения иностранных слов. Внутренняя форма эрзац-слов не совпадает с внутренней формой иностранного слова, берется совершенно другой исходный образ, но славяно-русскому слову придается иностранное значение. В отношении первых переводов с греческого подобное явление Е.М. Верещагин называет ментализацией , а А.М. Камчатнов - эйдетическим переводом.
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2025. № 1 (30)
Это, пожалуй, наибольшее отличие эрзац-слов от калек, которые повторяют внутреннюю форму иностранных слов русскими средствами.
Особую проблему представляют собой заимствование и калькирование из близкородственных языков. К примеру, часть отадъективных существительных на - ость унаследована из старославянского языка, часть создана на русской почве после распада славянской семьи, а часть заимствована в XVII – нач. XVIII в. из польского. Так, слова аккуратность, актуальность, аутентичность, беглость, безбожность, безбрежность, безграничность, безгрешность, бездетность, бездушность, безлюдность, безмерность, бременность и беременность, беспечность, бесплатность, бесправность, бессильность, бесспорность, бес-чинность, близкость, боязливость, бридкость, брутальность, бывалость, бытность и мн. др. отмечаются как заимствования из польского языка2. Как видим, практически все эти существительные легко находят свою мотивацию в русских прилагательных, а некоторые из них, возможно, появились не путем заимствования из польского, а путем независимого от польского параллельного образования в русском языке. Традиционный путь проникновения полонизмов в общерусский язык лежал через малорусскую речь. Так, слова беглость ‘благоискушение, ко-зацство’, безбожность ‘беззаконие’, беспечность ‘извество, отрада, необино-вение, опаство, утверждение, дерзновение’, боязливость ‘говение’, бридкость ‘мерзость, гнюс, туга, бессластие, несладость, скорбь, сокрушение’, бытность ‘бытие, существо’ отмечаются в юго-западнорусских рукописях XVII в.3 Многие кальки из близкородственных языков в действительности оказываются либо общим достоянием, либо заимствованием [Ефремов, 1974].
Процесс калькирования происходит не только на морфемном и лексическом уровне, но и во фразеологии и на уровне синтаксиса. Следовательно, калькирование в полном объеме этого понятия имеет общие зоны пересечения не только со словообразованием, но и с синтаксисом и учением об устойчивых словосочетаниях.
Переходя к нормативной точке зрения , возьмем заявленные в заглавии статьи понятия в их полном объеме. Нам представляется, что роль нормы как регулятора узуальной стихии, как предписываемого идеала, как образца литературной речи последовательно повышается от исконного словообразования через разные случаи калькирования к заимствованиям.
Исконное словообразование никаких тревог не вызывает. Напротив, развитие самых разных моделей, обогащение аффиксальных средств, их осложнение и дифференциация весьма благотворно сказываются на развитии русской лексики и в связи с этим тончайших оттенков мышления, чувствования, на совершенствовании всех сторон жизни и наиболее полном воплощении русской ментальности.
Норма дифференцирует словообразовательную синонимию. На периферии исконной части словообразовательной системы лежат заимствованные аффиксы. Например, скандинавский суффикс со значением лица или животного - яг // яж // яз -, будучи оформленным по м. роду, усваивается вместе с заимствованиями: князь , варяг , но изредка может осваиваться и в русском ( работяга и планеника родиши в Александрии XI–XIII вв., по НКРЯ). Женское производное от первого слова создается уже целиком на русской почве: княгиня . Иронические или уничижительные производные с суффиксом - яг - развиваются при оформлении по мужскому или общему роду на - а : коняга , (белка) летяга, работяга, трудяга, бродяга, миляга , фамилии Дурняга, Тепляга , а также от заимствованных основ симпатяга и др.
Эрзац-слова, внешне напоминающие лексические кальки, сыграли ключевую роль в усвоении греко-славянской христианской культуры и старославянского языка как литературной формы родного русского, в котором с первых памятников письменности появилась нормированная церковно-славянская стихия. Они продолжали играть важную роль и при переводах с латинского и новоевропейских языков, способствующих естественному обогащению русской лексической системы. Правда, среди новых эрзац-слов встречаются и неудачные, затемняющие смысл сказанного, не соответствующие требованию точности речи.
Таким, по нашему мнению, является новое эрзац-слово повестка (англ. the agenda ). Судя по НКРЯ, слово повестка употребляется с самого начала XVIII в. По повестке от вышестоящего начальства необходимо что-то сделать; ее (их) можно учинить , послать, разослать, подать, получить ; повесткой можно что-то отменить ; повестка бывает кому, к кому-чему, по кому-чему, на чье имя, о чем; что-то, откуда можно наблюдать противника (холмы, вершины деревьев), можно превратить в повестку ; повестка бывает пригласительная, понудительная, денежная, предварительная, условленная, особая . Это слово стало развивать образные употребления:
«Четыре дня потом. Показалась кровь горлом - повестка адской почты ! Зовут на получение савана^» [А.А. Бестужев-Марлинский. Он был убит (1835-1836)]4.
А во мне, что ни слово, то ложь, даже совестно ехать с таким, грузом, право!
В разговор вмешались и повестки . То-то обрадуется тот, кто получит меня, - сказала одна повестка (К. Д. Ушинский. Хрестоматия (1864))5.
В толковых словарях ближайшим к новому дается значение, известное в устойчивом сочетании повестка дня . Это полное сочетание встречается и в новейших употреблениях, из которых становится ясно происхождение эрзац-слова повестка дня > повестка :
«Учитывая то, что Трамп в начале срока знал о внешней политике намного меньше бывшего конгрессмена, позволяет сказать, что именно Помпео во многом формирует внешнеполитическую и оборонную повестку дня нынешнего хозяина
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2025. № 1 (30)
Овального кабинета» (Константин Эггерт. Человек с президентскими амбициями. Почему Москва еще не видела такого госсекретаря США, как Майк Помпео (18.03.2018) // «Сноб», 2018)6.
Иногда это сочетание в переносном значении ставится в кавычки или с предупредительной оговоркой вроде так называемая :
Более того, люди считают, что информационное пространство автоматически отображает социальную реальность, тогда как фактически СМИ не могут быть объективными уже на этапе поиска и отбора фактов и формирования так называемой повестки дня (Решетинская. Массмедиа и межэтнические взаимодействия // «Информационное общество», 2015) 7 .
По нашим наблюдениям, еще в 2015-2017 гг. в новом расширительном значении слово повестка употреблялось очень редко:
«Результатом этой программы конституционной трансформации становится возрождение^ идеи переструктурирования мировой и внутренней политической повестки в понятиях консервативных ценностей…» [А.Н. Медушевский. Политические сочинения (2015)]8.
Такой была повестка 1930-х: стройки, войны, шпионы, новые города… (Авченко, Фадеев, 2017) 9 .
Новое появившееся в непереводных текстах расширительное значение, близкое к ‘актуальная задача, тема обсуждения, программа действий’ (последний компонент ‘программа действий’ в русской среде едва ли понятен, см. ниже), встречается регулярно с 2018 г. с определениями новостная, информационнополитическая ; общественная, внешнеполитическая, международная, внутренняя, оборонная, патриотическая, феминистская, «белоленточная» ; радикальная, глобальная, мировая, региональная ; современная :
Речь идет о запросе на обобщенно понимаемую повестку справедливости. (Екатерина Шульман. Запрос на справедливость переживет и Путина, и Грудинина (07.03.2018) // «Сноб», 2018]10.
Существует несколько вполне подходящих русских слов, пригодных к этой семантической функции, вроде запрос, задача , еще больше разнообразных перифраз. Новое значение переносит в русский обиход иностранный образ, давая иное объяснение процедуре принятия решений. Но даже в этом случае весьма прозрачная связь с ведать – весть нарушает западную традицию, связанную не с ментальной сферой, а непосредственно с практической, поскольку производящий лат. глагол agere означает ‘приводить в движение, гнать’, то есть связан с физическим, а не ментальным действием. Повестка связана со словом агенда – с действием. Вот его первое употребление, пока еще как варваризма:
«Негоцианты порта были этим удивлены и обижены, - на всех лицах было заметно неудовольствие, а Шер, принеся свое поздравление отцу невесты, отошел в амбразуру окна и, достав из кармана агенду , написал nota bene, по которой тайной агентуре следовало пошарить везде, где возможно: все ли благополучно в делах почитаемого в миллионерах Фрица?» (Н.С. Лесков. Чертовы куклы (1890))11.
Обратим внимание на figura etimologica аг-енда - аг-ентура . Процесс заимствования начался не с английского, а с латинского значения ‘руководство к действию’, взятого из обычаев лютеранской церкви: агендой называется сборник церковных обрядов и правил, служебник. В английском (а сначала церковноанглийском – термин В. Пелевина) это слово усвоено в значении повестки дня, но ясно, что слово накапливает в себе и прежние образы, которые затем воспринимаются как «переносные».
Как это обычно бывает, заимствование появляется в русском языке раньше исконного эквивалента:
«Важно, что эта политизация или как минимум смена взглядов никак не сказалась на субкультурном коде: стиль правых скинхедов оставался таким же, каким он был до появления их новой политической агенды » (Ирина Сезина. Скинхеды в России: особенности субкультурного кода и идентификаторы // «Теория моды», 2013)12.
Можно смело утверждать, что эрзац-слово повестка полностью вытеснило уже не такое новое и редкое заимствование агенда . После процитированного примера в НКРЯ приводится только несколько контекстов с персонажем В. Пелевина Агенда . Как правило, такое вытеснение позволяет выработать точную русскую номинацию новому явлению и включить его в мир русских представлений. Но в данном случае церковная идея окончательно решенного канонического порядка богослужебных действий переносится на такой же строгий и окончательно решенный порядок обсуждения какого-либо вопроса с предсказуемым результатом. Английская монархическая система предполагает обсуждение не решения, а путей наилучшего исполнения готового решения, предписываемого порядка действий. Отсюда разное понимание повестки дня , которое затушевывается при переносе на русскую почву. В результате задача эрзац-слова подобрать именуемому предмету более ясную и привычную идейную интерпретацию, новое представление предмета не выполняется. Предмет либо подменяется нашей советской и постсоветской «повесткой дня», либо обрастает какими-то индивидуальными фантастическими домыслами, только затемняющими смысл сообщения.
Поморфемные кальки с греческого послужили важнейшим ресурсом начальной стадии русского литературного языка. Они послужили образцами для становления многочисленных собственно русских словообразовательных моделей. Их положительную роль трудно переоценить. Развитию научной терминологии, а также новых светских жанров, способствовали и способствуют позднейшие
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2025. № 1 (30)
поморфемные кальки. Отметим особо их роль в развитии синонимии типа евангелие – благовествование, орфография – правописание, объект – предмет и под.
Если неудачными можно признать лишь единичные эрзац-слова, то лексические кальки распадаются на благотворно влияющие на богатство и выразительность русской лексики (их большинство) и такие, которые не способствуют точности и прямоте литературной речи, провоцируют двусмысленность и незаметное проникновение чуждых русской ментальности принципов мышления и изъяснения. Приведем в пример слова сделка и продать (новость).
С недавнего времени вместо привычных дипломатических терминов меморандум, соглашение, договор приходится слышать слово сделка . Даже нефилоло-гу становится понятно, что это буквальный перевод какого-то английского слова ( the deal ), которое находится в ином, англо-американском понятийном окружении. Русский человек сразу включает новое употребление старого и хорошо знакомого слова в привычные сочетания коммерческая сделка, пойти на сделку, сделка с совестью и под. При заключении сделки партнеры исходят каждый из своих правил. Заключение сделки возможно только в том случае, если какие-то элементы правил одного партнера совпадают с какими-то элементами правил другого партнера. Самое существенное в подготовке сделки состоит в том, что правила могут меняться. Сильная сторона пытается сохранить свои правила и заставить слабую сторону изменить ее правила. Соблюдение закона при этом мыслится на последнем месте. Конечно, сделки заключаются при желательном соблюдении закона, но закон играет внешнюю роль: сначала заключается сделка и только потом можно вынести суждение, законна она или незаконна.
Перенесение торгово-коммерческих отношений в дипломатическую сферу чревато пренебрежением международными законами. Но для дипломатов закон – это не внешнее ограничивающее препятствие, а внутреннее условие, стимулирующее их деятельность. В этом принципиальное различие сделки и договора. При нарушении сделки (тем более если нет возможности вынести суждение относительно ее законности) закон применить очень трудно, при нарушении договора закон вступает в силу моментально. Соблюдение сделки бывает до тех пор, пока обеим сторонам это выгодно. Ее легко расторгнуть на совершенно законных основаниях. Соблюдение договора накладывает на стороны взаимные обязательства не только ради сиюминутной выгоды, но и ради долгосрочной политической перспективы того или иного сосуществования сторон.
Ясно, что термин сделка предлагается в системе «правил», а не установленных международных законов. И если российская сторона выступает против «правил», которые пытается установить только одна, притом нероссийская сторона, то и новый элемент языка, применяемого в международных отношениях, в переводах сообщений западных журналистов следует по возможности оговаривать: по словам… и под. Послушное подведение под понятие договора термина сделка в обзорах международных отношений уже влечет за собой игру по правилам противной стороны и первый шаг к сдаче наших позиций, наших правил.
Во всяком случае, даже если мы заключаем сделку , а не договор , то все равно в юридическом отношении в результате сделки надо будет подписывать договор, и эту последнюю цель никогда не следует упускать из виду.
Приведенный пример требует более внимательного отношения к переводам, их изоляции от наших отечественных устоев, особенно когда переводы новых иностранных терминов буквальны. В конце концов, и серьезным зарубежным дипломатам, и нашим слушателям новостей и политических обзоров ясно, что реальный подписываемый документ сделкой не называется, это всего лишь ковбойский нарратив . Значит, дело не в изменении протокола, а в каком-то особом настраивании западных слушателей. Может быть, сделка - это какой-то эвфемизм, истинное значение которого всякий раз, хотя бы в аналитических обзорах, требуется оговаривать. В прямых переводах иностранных политиков и журналистов это делать порой просто некогда. Но буквальные переводы вовсе не обязательно распространять, начиная бездумно процесс лексического калькирования.
Перевод является необходимым условием калькирования, но вовсе не его обязательной причиной: лишь малая толика удачно найденных переводных эквивалентов продолжает жизнь как иноязычные содержательные вкрапления в русский язык, незаметно растворяясь в нем. Всякое переведенное слово остается в тексте и пребывает как факт текста, но не факт языка. Всякая калька есть результат повторения и усвоения нового слова членами языкового сообщества, приятие факта текста в виде факта языка. Переводной эквивалент становится калькой лишь при особых условиях, при особом осознанном и обоснованном культурнонациональными интересами желании говорящих строить с помощью усваиваемого новосозданного слова (значения слова) новые оригинальные тексты.
Глагол продать (англ. to sell) калькирует новое английское значение из информационной сферы. Можно считать, что промежуточными объектами при этом глаголе были такие, как секрет, важные сведения . Но в этом случае распространение информации не предполагается. Актуальна вторая валентность «кому». Калькируется другое значение, связанное с широким распространением каких-либо новостей. Адресатом в этом случае становятся СМИ, читатели. Ср.:
«Что греха таить, у меня в кабинете появлялись “ходоки”, которые предлагали продать информацию – на Западе в ней были очень заинтересованы многие научные центры» (Владимир Губарев, Владимир Котляков. Академик Владимир Котляков: «Когда от любви тают льды...» // «Наука и жизнь», 2008) 13 .
Один из ранних русских примеров калькируемого значения предусмотрительно подается с английским переводом, в отношении выделенных слов - обратным:
«Медиа-бизнес / Media business. Когда к людям приходит горе, постарайтесь хорошенько его продать в виде новостей – и будет вам счастье. / When people suffer affliction, try your damnedest to sell it as news – and their misfortune will be
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2025. № 1 (30)
Как художественный сатирический прием, которым Пелевин пользуется виртуозно, такое употребление глагола продать очень остро и выразительно. Но его повтор в собственной речи русских интеллектуалов стирает уничижительную окраску и вызывает болезненную привыкаемость к этому аморальному и циничному безбрежному расширению товарных отношений. Однако с оговорками типа якобы с подчеркиванием фигурального смысла такое употребление вполне допустимо:
«Авторство слухов об уничтожении подразделения российских боевых вертолетов и двух десятков грузовиков принадлежит пропагандистам ИГ (“Исламское государство”, запрещенная в России террористическая группировка. – “Ъ”), которые безуспешно пытались продать эту якобы новость около 10 дней назад», – заявил господин Конашенков (Мария Рудницкая. В ведомстве назвали сообщения о потерях пропагандой ИГ // Коммерсант, 24.05.2016) 15 .
Прошло достаточно времени, чтобы фразеологические кальки, приведенные С.К. Буличем, могли расцениваться с нормативной точки зрения. Некоторые из них оказались недолговечными, нарушающими норму, уходящими в жаргон декадентов точно так же, как во второй пол. XVIII в. высмеивались и быстро уходили в прошлое кальки щегольского жаргона. Нынешние кальки с английского – одни актуальны и полезны для обсуждения и оценки соответствующего явления, напр., ядерная война, глубинное государство , другие остаются принадлежностью интеррусского языка [Воробьева, 2009, с. 178] – нынешнего щегольского наречия.
На синтаксическом уровне, наподобие эрзац-слов, возможны эрзац-предложе-ния. Одни усваиваются нашим этикетом и успешно перерабатываются ( Как ( Ваши, твои ) дела ? – англ. How are you ? Впрочем, чистая синтаксическая калька ( Ну ) как Вы ( ты )? подошла к русской традиции частного общения еще лучше), другие произносятся в СМИ, а вслед за ними и в речи публики, следящей за речевыми «трендами», нарушают русскую традицию неспешного душевного общения. Берегите себя! навязывается через СМИ как новая формула прощания на месте формальноэтикетного английского Take care! , хотя в русской традиции это всегда актуализо-ванное сердечное пожелание родному или близкому дорогому человеку:
«– “ Береги себя , друг мой!” – сказала она мне, сквозь слезы: – “ты еще так молод!” – И точно я был дитя: мне был только семнадцатый год от роду!» (Ф.В. Булгарин. Воспоминания (1846-1849))16.
Среди синтаксических калек, не соответствующих русскому культурно-языковому контексту, можно назвать формулу знакомства Я Иван (англ. I’m Ivan ) вместо традиционной безличной Меня зовут Иваном . Продолжение реплики
Я студент 1-го курса в обоих случаях будет одинаковым, но необходимое указание на неопределенность, выражаемое русским неопределенно-личным предложением, в английском соответствует неопределенному артиклю а перед сочетанием со словом student . Если заменить русское односоставное на двусоставное по английскому образцу, необходимая ситуативная неопределенность исчезнет вообще, потому что в русском языке неопределенность в морфологии имени не выражается.
Споры об уместности/неуместности заимствований уже сами по себе показывают их положительную или отрицательную роль в развитии русского языка.
Итак, нормативная точка зрения требует выработки языкового идеала, первой чертой которого является «поразительный консерватизм» [Пешковский, 1925, с. 113]. В этот идеал входит ясность речи [Там же, с. 116].
Выше было сказано о принципиальном отличии перевода от калькирования. В связи с этим слова сделка и продать (новость) можно только приветствовать как переводные эквиваленты, ясно и точно раскрывающие внутренний образ и способ переноса значений соответствующих английских слов. Но калькирование этих образов зарубежной публицистической речи в русских оригинальных текстах влечет за собой перенос иностранных риторических правил в русское общение, направляя его во всеобщее и безраздельное верховенство коммерции и торговли, где допустимы ловкие трюки менеджмента и маркетинга. В. Пелевин подметил, что трагическое событие при этом становится товаром, на котором можно нажиться. А раз так, значит, такое событие можно и создать. Внедрение таких калек в русскую публицистику вызовет и практические политические решения сомнительного, аморального толка. Качество калек создает новые, не всегда приемлемые ценности. То же можно сказать и об эрзац-слове повестка.
Русское словообразование, с одной стороны, захватывает модели с заимствованными формантами, с другой стороны, предоставляет материал для эрзац-слов. В части лексического и поморфемного калькирования оно пересекается с процессом заимствования. Заимствование иностранных слов представляет собой особый способ словообразования с отсутствием исконной мотивации. Вопрос о происхождении слов в лексикологии пересекается, таким образом, со словообразованием. Предлагаемые уточнения терминологии встраиваются в уже существующее основание классификации калькирования по уровням языка: поморфем-ное, лексическое, фразеологическое , наконец, синтаксическое калькирование и, соответственно, поморфемные и т.д. кальки .
Русское говорящее сообщество выделяет из себя гениев словесности, которые подхватывают лучшие узуальные решения, сами составляют слова из исконных морфем, калькируют полезные и выразительные иностранные языковые единицы, высмеивают неудачные кальки; заимствуют одни слова и отказываются от заимствования других, которым находят удачные эрзац-слова. В обязанность языковеда входит не только бесстрастное наблюдение за этими процессами, но и их нормативная оценка с опорой на образцы, созданные мастерами слова.
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2025. № 1 (30)