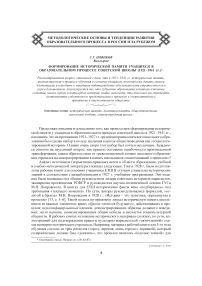Формирование исторической памяти учащихся в образовательном процессе советской школы (1921-1941 гг.)
Автор: Новиков С.Г.
Журнал: Известия Волгоградского государственного педагогического университета @izvestia-vspu
Рубрика: Методологические основы и тенденции развития образовательного процесса в России и за рубежом
Статья в выпуске: 5 (188), 2024 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается вопрос, связанный с тем, что в 1921-1941 гг. историческая память, инсталлируемая в процессе обучения в сознание учащихся, позволяла им давать оценки настоящему и находить в минувшем подтверждение обоснованности стратегического курса большевиков. Анализируется то, что субъекты образования усваивали ключевые события, имена героев и антигероев истории, мифы, ценности, что помогало им определять соответствие собственного представления о прошлом к «нормативному», принятому в отечественном обществе.
Историческая память, политика памяти, обществоведение, школьный учебник, единая трудовая школа
Короткий адрес: https://sciup.org/148329341
IDR: 148329341
Текст научной статьи Формирование исторической памяти учащихся в образовательном процессе советской школы (1921-1941 гг.)
Продолжая описание и осмысление того, как происходило формирование исторической памяти у учащихся в образовательном процессе советской школы в 1921–1941 гг., напомним, что на протяжении 1921–1927 гг. организаторами советского школьного образования был сделан выбор в пользу изучения в школе обществоведения как «социологи-зированной истории». Однако очень скоро этот выбор был сочтен неудачным. Зададимся ответом на двуединый вопрос: как пришло осознание ошибочности произведенной трансформации; каким образом отказ от «революционной ломки» школьного образования отразился на инкорпорировании в память школьников «воспоминаний о прошлом»?
Анализ источников (нормативно-правовых актов в области образования, учебной и учебно-методической литературы) показал следующее. Уже в 1928 г. были подготовлены рабочие книги для освоения учащимися ЕТШ II ступени социально-исторических знаний в соответствии с разработанными в 1927 г. учебными программами. Эти издания были написаны под общим руководством лидера советских историков-марксистов, замнаркома просвещения РСФСР и руководителя научно-политической секции ГУСа М.Н. Покровского. В книгах для ЕТШ исторические факты явно «подбирались» под требования «текущего момента». По сути, авторы руководствовались формулой, «отлитой в бронзе» М.Н. Покровским в 1928 г.: «История – это политика, опрокинутая в прошлое» [13, с. 5–6]. Такой подход по-прежнему лишал историческую память школьников ее важных элементов: ярких образов «агентов будущего», действовавших в прошлом; персонифицированных идеалов, демонстрировавших образцы должного поведения; мест памяти , символизировавших общие победы и несчастья социокультурной общности. В рабочих книгах изложение исторического материала служило, по сути, иллюстрацией для подтверждения правоты вульгарно-марксистской «пятичленной» схемы всемирно-исторического процесса. Например, материал рабочей книги для 5-го года обучения состоял из трех разделов (город; деревня; связь города с деревней), который содержательно должен был «доказать», что прошлое являлось «юдолью земной» для
* Окончание статьи. Начало см. в № 4(187).
трудящихся. Иными словами, историческая информация не представлялась школьникам системно , а выступала «аргументом» для вынесения положительных оценок советским реалиям.
В результате формировавшаяся у школьников на уроках обществоведения историческая память не могла представлять из себя ничто иное, как набор почти неокрашенных эмоционально картин из прошлого, подтверждавших большевистские идеологемы. В пользу данного утверждения говорит, в частности, зафиксированный современником диалог, состоявшийся на уроке по теме «Крепостное право»: «Преподаватель. – Откуда взялись цари? Ответ. – Это были князья, богатые люди (поправляется), нет, это были славяне. Князья пришли со своими дружинниками, через них князья собирали оброки. Препод. – Так. Ну, продолжай, где старались селиться славянские племена? Ответ. – Они селились там, где были речки, возле Киева и обдирали всех, кто ехал » (Курсив наш. – С.Н. ) [3, с. 208]. Об обоснованности оценочных суждений, хранимых конструируемой подобным образом исторической памятью, можно судить по другому диалогу: «Препод. – Как развивалось царское государство? (вдогонку). Довольно ли было население царем? Ответ. – Нет. Препод. – Конечно, нет, ясно, он ведь был из богатых» [Там же].
И смешение эпох в сознании учащихся, и лакуны в их исторических знаниях были следствием реализации в школьной практике комплексных программ. Именно такой вывод содержался в постановлениях руководящего органа партии-государства – ЦК ВКП(б) – 1931, 1932 и 1933 гг. Однако в этих документах не высказывались претензии относительно формирования исторической памяти школьников. Можно, конечно, предположить, что данный факт объясняется отсутствием в понятийном аппарате авторов постановлений такового термина. Но, думается, если бы он и присутствовал в актуальном языке партийных идеологов, то последние вынесли бы удовлетворительную оценку процессу инсталляции в сознание учащихся «идеологически верных» представлений о прошлом. Ведь содержание курса обществоведения в ЕТШ рубежа 20–30х гг. ХХ в. создавало у школьников ощущение преемственности с «революционным» прошлым, привносило в их коллективную память «полезные» для «мировой революции» и правящего режима «воспоминания». Вероятно, в результате этого преподавание обществоведения попало только в число «других» при перечислении авторами постановления ЦК ВКП(б) 1931 г. недостатков образовательного процесса: «Обучение в школе не дает достаточного объема общеобразовательных знаний и неудовлетворительно разрешает задачу подготовки для техникумов и высшей школы вполне грамотных людей, хорошо владеющих основами науки (физика, химия, математика, родной язык, география и др.)» [14, с. 3].
Исходя из выявленных дефектов в школьном образовании, ЦК ВКП(б) принял решение совершить в нем поворот, положительно повлиявший на формирование у обучающихся исторической памяти. Исполняя указания руководства партии-государства, Наркомпрос РСФСР стал возвращать в начале 30-х гг. ХХ в. в школьную практику предметные учебные программы. Уже летом 1933 г. (через несколько месяцев после выхода специального постановления высшего партийного органа о школьных учебниках) публикуются программы по истории, а на следующий год – соответствующие им учебники [1; 2; 9]. Характерно, что эти книги не разделяли всемирный исторический процесс на два «параллельных потока» и рассматривали в целостном единстве отечественную и всеобщую историю. Обратим внимание, что учебник для 6 и 7 классов посвящал большинство глав (13 из 18) изложению зарубежной истории, что представляется нам логичным, поскольку в них характеризовалось развитие феодализма в ряде стран Западной Европы. Нельзя не заметить, что содержанием трех из пяти глав по отечественной истории «эпохи феодализма» в историческую память школьников закладывались «воспоминания» о тяжелом положении трудящихся в дореволюционной России и вытека- ющей из этого перманентной классовой борьбе. Так, с названными сюжетами были прямо связаны три из четырех параграфов XVII главы учебника: «Города и городские восстания в XVII в.», «Крестьянская война на Украине (1648–1654 гг.)», «Крестьянская война в Поволжье в 1670–1671 гг. (разинщина)». Предваряющий их параграф «Деревня в XVII в.» закономерно подводил школьников к выводу о неизбежности вышеназванных выступлений народных масс. Примерно так же был структурирован учебный материал следующей XVIII главы. В ней классовой борьбе было отведено три параграфа из семи: «Крестьянские восстания XVIII в. до пугачевщины», «Пугачевщина на Урале», «Крестьянская война на Волге» [1, с. 204–224]. Таким образом, самодержавной России следовало остаться в исторической памяти школьников в качестве феномена проклятого и проклятого. Соответственно, и внешняя политика самодержавия должна была отложиться в памяти учащихся как своекорыстная политика эксплуататоров. Так, в параграфе «Россия в XVIII в.» расширение Московского царства, а потом и Петербургской империи, трактовалось в следующих выражениях: «Разгром крестьянской войны в Поволжье расчищал московским крепостникам дорогу на юг и восток, в Заволжье, на Южный Урал. <…> Успешные захваты укрепляли крепостническое государство. Они способствовали сохранению в нем крепостных порядков» [Там же, с. 225].
Однако сетка учебников 1934 г. не «укоренилась» в школьном образовании. В мае того же года было принято постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) «О преподавании гражданской истории в школах СССР», инициировавшее кардинальные изменения в историческом образовании. Появлению этого документа предшествовало обследование 100 тыс. учащихся 120 школ из 14 краев и областей РСФСР. Оно обнаружило, наряду с некоторым повышением уровня исторических знаний школьников, плохое знание ими исторических фактов, хронологии, непонимание причинно-следственных связей и пр. [16]. Как следствие, постановлением 16 мая 1934 г. предписывалось отказаться от преподавания истории в виде «отвлеченных социологических схем» и перейти к ее изучению «в живой занимательной форме с изложением важнейших событий и фактов в их хронологической последовательности, с характеристикой исторических деятелей» [11]. Постановление ввело линейно-хронологический принцип изучения истории в школе и назначило авторов учебников, которые должны были быть подготовлены к июню 1935 г. Не прошло и месяца, как появляется новое постановление ЦК ВКП(б), определявшее количество часов, отводившееся на изучение элементарного курса всеобщей истории и истории СССР в начальной и неполной средней школе (с 3 по 7 класс всего 360 часов) [8, с. 168].
Руководство партии-государства особо волновало наличие в исторической памяти подрастающих поколений «правильных воспоминаний» о прошлом отечественного общества. В августе 1934 г. за подписью И.В. Сталина, А.А. Жданова и С.М. Кирова членам Политбюро ЦК ВКП(б) и авторам проекта учебника по истории страны были разосланы «Замечания по поводу конспекта учебника по истории СССР». Авторы текста, критически оценив проект книги, подготовленный группой ученых по главе с Н.Н. Ванагом (заместителем директора Института истории Комакадемии), сформулировали концепт того, что следует считать отечественным прошлым. Таковым объявлялась история «народов, которые вошли в состав СССР» [15]. Процесс написания соответствующего учебника затянулся, так как подготовленный в 1935 г. новый вариант книги группы Н.Н. Ванага и макеты учебников по истории СССР для начальной школы еще двух групп ученых не удовлетворили И.В. Сталина. В конечном итоге в 1936 г. был объявлен конкурс на лучший учебник по истории СССР для начальной школы (3 и 4 классы), победителем которого в 1937 г. стал учебник под ред. А.В. Шестакова (один из 46 проектов, представленных на рассмотрение правительственной комиссии).
Поскольку учебник А.В. Шестакова с 1937 по 1955 гг. выдержал множество изданий, он заслуживает специального анализа. Ведь, по сути, эта книга стала ключевым средством формирования исторической памяти у всех детей Советского Союза, прошедших через начальную школу. Как точно заметил М. Ферро, то, «что удовлетворяло нашу первую любознательность, пробуждало наши первые эмоции, остается неизгладимым» [17, с. 7]. Учебник организовывал поступательное «узнавание прошлого» от первобытности до современности, становящееся для советских школьников «открытием мира» [Там же]. Ключевыми понятиями, через которые репрезентировалась история СССР, были «государство», «революция», а также «пучок» понятий, характеризующих притеснение трудящихся и их борьбу с эксплуататорами («угнетение», «народное восстание», «крестьянская война»). Так, в названиях глав (15) и параграфов (65), по нашим подсчетам, «революция» упоминалась 11 раз, «государство» – 9, а термины, характеризующие классовую борьбу, – 20 раз. Среди главных «событий», отобранных авторами учебника для инсталляции их в историческую память учащихся начальной школы, наблюдаются, такие как образование и развитие «Киевского государства», нашествие монголов и установление «ига», «создание русского национального государства» и его территориальное расширение, «Крестьянские войны» XVII в., образование и функционирование Российской империи в XVIII в. («империи помещиков и купцов»), «рост капитализма в царской России», две буржуазные революции и «Великая Октябрьская социалистическая революция», «военная интервенция, Гражданская война», «переход на мирную работу по восстановлению хозяйства страны». Увенчивало же отечественный исторический процесс в версии авторов книги следующее «событие» современности: «СССР есть страна победившего социализма» (название заключительной главы, думается, неслучайно звучало как общий вывод ). Структурообразующая идея учебника могла бы, на наш взгляд, быть выражена так: народы, населяющие СССР, прошли длительный исторический путь, на протяжении которого они, преодолевая внешние нашествия и борясь с эксплуататорами, свергли власть помещиков и капиталистов и построили социалистическое общество под руководством партии Ленина. Характерно, что из 56 дат, включенных в хронологическую таблицу учебника, 24 даты были непосредственно связаны с классовой борьбой русского народа и зарубежных трудящихся (к этому следует прибавить время жизни К. Маркса, Ф. Энгельса и В.И. Ленина, даты основания РСФСР и СССР, год «злодейского убийства С.М. Кирова врагами народа – троцкистами»). Получается, что более половины событий, «привязанных» к «хронологической шкале» учебника, закрепляли в исторической памяти школьников представление о прошлом как о разворачивавшейся во времени борьбе трудящихся с эксплуататорами. Соответственно, СССР представлялся в качестве материализации многовековых чаяний народных масс. Строго говоря, эта мысль была сформулирована уже во введении к учебнику: «В СССР нет паразитов – капиталистов и помещиков, как в других странах. В СССР нет эксплуатации человека человеком. Все мы работаем на себя, а не на паразитов» [7, с. 3]. Таким образом, историческая память использовалась для обоснования новой социокультурной идентичности – советский народ [10, с. 116; 11, с. 159–161].
На сохранение в исторической памяти важнейших событий и персон отечественной истории «работал» иллюстративный материал учебника. Он включал в себя 9 вклеек (6 карт, показывавших территориальное расширение страны на протяжении истории, и 3 портрета основоположников учения, выражавшего коренные интересы трудящихся, – К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина). Кроме того, школьникам предлагались 40 портретов исторических лиц (в том числе 2 – иностранных, Марата и Наполеона Бонапарта; первый – вождь Великой Французской революции, убитый контрреволюционерами, второй – вождь «буржуазной Франции», пришедший к власти по завершении революции). В исторической памяти школьников должен был быть запечатлен образ двух государей России: Ивана Грозного и Петра I (первого царя и первого императора). К славным фигурам отечественной истории были отнесены первопечатник Иван Федоров, Ермак (чья скульптура работы А.А. Антакольского была помещена на с. 42), К. Минин (изображенный на с. 47 в толпе нижегородцев, без князя Д. Пожарского, «отметенного» авторами учебника, очевидно, вследствие его аристократического происхождения). Зрительная память должна была «работать» и на запоминание вождей «крестьянских войн» (С. Разина, К. Булавина и Е.М. Пугачева; образ еще одного вождя – И. Болотникова – не имел «канонического изображения», поэтому он опосредованно закреплялся через картинку «Крестьяне идут в армию Болотникова»). Образ страны рисовался авторами учебника также при помощи портретов деятелей русской культуры, среди них М.В. Ломоносов, А.С. Пушкин, В.Г. Белинский, Т.Г. Шевченко, Н.А. Некрасов, Л.Н. Толстой, И.Е. Репин. Характерно, что основанием для помещения изображения той или иной исторической фигуры на страницы учебника была ее идейнополитическая позиция. Так, про Н.А. Некрасова было сказано, что его «стихи были любимыми песнями революционеров того времени» [7, с. 99]. А про великого русского писателя говорилось: «Толстой не был сторонником революции. Но он видел тяжелую жизнь крестьян и сурово бичевал произвол царских чиновников, помещиков и капиталистов» [Там же, с. 110]. Еще одну группу образов составляли дворянские революционеры и революционные демократы (школьникам предлагалось изображение медальона с пятью казенными декабристами, портреты В.Г. Белинского, А.И. Герцена, Н.Г. Чернышевского). Своего рода переходной фигурой от революционеров-демократов к большевикам представлялся основоположник марксистского учения в России Г.В. Плеханов (чей образ был принижен, будучи квалифицирован как «первый пропагандист марксизма»). В череде портретов субъектов дореволюционной отечественной истории несколько особняком стоит изображение Шамиля, помещенное в параграфе «Завоевание Кавказа» [Там же, с. 90]. Эта фигура подавалась школьникам как предводитель героической борьбы горцев Северного Кавказа с экспансией царской России.
Важное место в подобранных авторами учебника иллюстрациях занимало изображение деятелей большевизма. В.И. Ленин был запечатлен не только на вклейках, но и при сопровождении текста. Три портрета были помещены при описании начала его жизненного пути («Ленин в школе», «Ленин в рабочем кружке в Петербурге», «Владимир Ильич Ленин в 90-х годах», с. 115, 116 и 117). Также иллюстрациями закреплялись в памяти еще два знаковых события, связанных с деятельностью вождя большевизма: встреча возвращавшегося из эмиграции Ленина на Финляндском вокзале в апреле 1917 г., его руководство вооруженным восстанием в октябрьские дни 1917 г. [Там же, с. 150, 158]. Портрет Ленина можно было заметить и при работе с иллюстрацией «Заседание комитета деревенской бедноты в 1918 году».
Кроме того, учебник Шестакова фиксировал в исторической памяти школьников сконструированный его авторами революционный пантеон. Это происходило через упоминание о деятельности видных большевиков, скончавшихся или «убитых врагами» к 1937 г., их образы закреплялись визуально иллюстрациями: Я.М. Свердлова (с. 160), Ф.Э. Дзержинского (с. 164), В.В. Куйбышева (с. 184), Г.К. Орджоникидзе (с. 185), С.М. Кирова (с. 207). Трое из названных оказались также изображенными, наряду со И.В. Сталиным и А.С. Бубновым (расстрелянным в 1938 г.), на иллюстрации «Боевой центр по руководству восстанием в октябре 1917 года». Необходимо отметить, что эта иллюстрация (с. 157) закладывала в историческую память школьников, по сути, миф, поскольку вышеназванный центр ничем себя 24–26 октября 1917 г. не проявил (в отличие от ошельмованного в учебнике Л.Д. Троцкого – председателя Петросовета и второго, после Ленина, «вождя Октября»).
Отдельную группу знаковых лиц для исторической памяти школьников составили «герои революции и гражданской войны», удостоенные портретного изображения: Н.А. Щорс, В.И. Чапаев, М.В. Фрунзе, К.Е. Ворошилов, С.М. Буденный, В.К. Блюхер,
А.И. Егоров (последние двое будут репрессированы в 1938 г., но в 1937 г. они еще находятся в ряду персон, достойных подражания). Наконец, в качестве творцов истории «наших дней» авторами учебника были представлены передовики производства (портрет одного из них – А. Стаханова – был напечатан в параграфе «СССР – страна социализма»). Помещенный на следующей странице портрет наркома Л.М. Кагановича был визуализацией когорты «железных большевиков», ведших страну от победы к победе. Заключительный параграф учебника являл глазам школьников официальных руководителей страны (портреты М.И. Калинина и В.М. Молотова).
Разумеется, в условиях сложившегося режима личной власти Сталина, «вождю всех вождей» уделялось в учебнике заметное место. Так, параграф 61 «Ленин умер, но дело его живет» вносил в историческую память школьников событие, приобретавшее символическое значение, – «клятву Сталина» на траурном заседании съезда Советов 26 января 1924 г. Ее изложение занимало большую часть текста: 51 строчка из 70. В параграфе 63 «СССР – страна социализма» лидер партии-государства прямо именовался «вождь народов великий Сталин» [Там же, с. 205]. В исторической памяти школьников образ Сталина запечатлевался как образ естественного политического наследника Ленина. Эту мысль подкрепляли и совместной фотографией Ленина и Сталина во время болезни основателя большевизма. Цепочка преемственности тем самым подтверждалась визуально.
Над формированием исторической памяти учащихся продолжали работать и в последующие годы обучения в школе: в 5–6 классах – в рамках «истории древнего мира, в 6–7 классах – «истории средних веков». Содержание исторического образования на уровне учебников было представлено в книгах, вышедших в 1940 г. под редакцией А.В. Мишулина и Е.А. Косминского соответственно [4; 5]. На наш взгляд, учебник по древней истории был перегружен датами и именами, будучи скорее упрощенным и популярным изложением аналогичного вузовского курса. Данный факт создавал проблему для обогащения исторической памяти школьников запоминающимися образами и историческими фигурами. Так, хронологическая таблица учебника включала 78 дат. Авторы издания оперировали почти 500 терминами, что также представляется избыточным. Разделяя вульгаризированную марксистскую схему всемирной истории (догматизированную И.В. Сталиным), они включали в историческую память школьников понятие «революция рабов». Последнее, полагаем, легко инсталлировалось в «воспоминания» учащихся о прошлом, поскольку в 3–4 классах они уже усвоили идею о революции как локомотиве истории. Следовали утвердившемуся в советской науке пониманию исторического процесса как естественноисторического, движимого классовой борьбой, и авторы учебника по истории средних веков. Они также уделили особое внимание восстаниям народных масс. Так, «воспоминания» школьников о выступлениях социальных низов в России (приобретенные ими в начальной школе), о восстаниях угнетенных в древности (рабов в Сицилии, Спартака, «Красных бровей» и «Желтых повязок» в Китае) были дополнены новыми «воспоминаниями» (Жакерия, восстания Уота Тайлера и чомпи, гуситские войны, крестьянская война в Германии).
Наполнение исторической памяти учащихся об отечественном прошлом должно было продолжаться в 8–10 классах. Учебники по истории СССР были изданы в 1940 г. (а макет их появился в 1938 г.) [6]. Все книги издавались под общей редакцией А.Н. Панкратовой. Учебники были перегружены именами и датами, что, с нашей точки зрения, осложняло освоение школьниками содержания учебного материала.
Подытожим изложенное. Во-первых, историческая память всегда и везде является феноменом, конструируемым и подверженным политическим влияниям. Во-вторых, в 1921–1941 гг. теоретическую основу для формирования исторической памяти советских школьников составлял вульгаризированный марксизм. В-третьих, инсталлируемая в сознание учащихся историческая память позволяла им давать оценки настоящему и находить в прошлом подтверждение обоснованности стратегического курса большевиков. В-четвертых, в образовательном процессе советской школы ее субъекты усваивали ключевые события (привязанные к датам), имена героев и антигероев истории «родной» социокультурной общности и всего человечества, мифы (идеологемы, сакрализировавшие отдельные феномены реальности), фундаментальные мотивы жизнедеятельности, структурируемые ценностями многих поколений трудящихся («солидарность», «классовая борьба» и пр.). Это побуждало школьников оценивать соответствие собственного отношения к явлениям и процессам настоящего и прошлого «нормативным» представлениям о них отечественного общества.
Список литературы Формирование исторической памяти учащихся в образовательном процессе советской школы (1921-1941 гг.)
- Гуковский А.И., Трахтенберг О.В. История. Эпоха феодализма: учебник для 6-го и 7-го классов средней школы. М., 1934.
- Ефимов А., Фрейберг Н. История: Эпоха промышленного капитализма: учебник для средней школы: 7 и 8 годы обучения. М., 1934.
- Иоаннисиани Ал. Рабочие книги по обществоведению (5, 6 и 7 годы обучения) // Историкмарксист. 1928. №7. С. 207–217.
- История древнего мира: учебник для 5–6 классов средней школы / под ред. проф. А.В. Мишулина. М., 1940.
- История средних веков: учебник для 6–7 классов средней школы / под ред. проф. Е.А. Косминского. М., 1940.
- История СССР: учебник для средней школы / проф. К.В. Базилевич, проф. С.В. Бахрушин, проф. А.М. Панкратова, доц. А.В. Фохт; под ред. проф. А.М. Панкратовой. М., 1940.
- Краткий курс истории СССР: учебник для 3-го и 4-го классов / под. ред. проф. А.В. Шестакова. М., 1937.
- Народное образование в СССР. Общеобразовательная школа. Сборник документов. 1917–1973 гг. М., 1974.
- Никольский Н.М. История: Доклассовое общество. Древний Восток. Античный мир: учебник для 5 класса средней школы. М., 1934.
- Новиков С.Г. Воспитание в стране «системного антикапитализма» (1921–1941 гг.) // Отечественная и зарубежная педагогика. 2021. Т.1. №3(76). С. 106–119.
- Новиков С.Г. Воспитание советской идентичности у школьников (1921–1941 гг.) // Отечественная и зарубежная педагогика. 2022. Т.1. №1. С. 153–167.
- О преподавании гражданской истории в школах СССР. Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Центрального Комитета ВКП(б) 15 мая 1934 г. // Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК. 1934.
- Покровский М.Н. Общественные науки в СССР за десять лет: Доклад на конференции марксистско-ленинских учреждений 22 марта 1928 г. // Вестник Коммунистической академии. М., 1928. Кн. 26(2).
- Постановление ЦК ВКП(б) «О начальной и средней школе» от 5 сентября 1931 г. // Педология. 1931. №4(16). С. 3–8.
- Сталин И.В., Жданов А.А., Киров С.М. Замечания по поводу конспекта учебника по истории СССР // Правда. 1936.
- Указания к программам для неполной средней и средней школы на 1934–1935 учебный год. Вып. 1: Русский язык. Литература. История. Иностранные языки. Тобольск., 1934.
- Ферро М. Как рассказывают историю детям в разных странах мира. М., 2010.