Статьи журнала - Проблемы исторической поэтики
Все статьи: 940

Путь по воле бога в романе И. А. Бунина "Жизнь Арсеньева"
Статья научная
Статья посвящена изучению мотива Пути по воле Бога в романе И. А. Бунина «Жизнь Арсеньева». Это произведение насыщено образами перемещения главного героя в пространстве, а также мотивами движения, которые в комплексе формируют и позволяют выявить в тексте древнейшую мифологему Пути, обладающую высоким смысловым потенциалом. В ходе исследования автором установлено, что в романе «Жизнь Арсеньева» проявляется несколько значений и инвариантов этой мифологемы, среди которых исключительную роль играет мотив Пути по воле Бога, изучению которого уделено основное внимание. С этой целью выявлены и проанализированы ключевые пространственные образы христианского хронотопа романа (храм, церковь, собор), раскрыта роль библейских цитат, сюжетов, мотивов, образов, к которым в процессе осмысления поиска пути истинного обращается главный герой. Мотивы Пути к Богу и Пути по воле Бога играют ключевую роль для понимания исканий героя, ведущих авторских идей и выполняют в романе не только сюжетообразующую, но и смыслообразующую функцию.
Бесплатно

Пушкин в творческой эволюции А. Платонова
Статья научная
В статье анализируются пушкинские мотивы в творчестве А. Платонова, а также статьи писателя, посвященные А.С.Пушкину, в историко-литературном контексте советских дискуссий 1937 года. Делается вывод, что пушкинский код открывает горизонты православной духовности в творчестве Платонова.
Бесплатно

Пушкин в философско-эстетической системе Ю.И. Айхенвальда
Статья научная
В статье поставлен вопрос о роли пушкинского начала в философско-эстетической системе Ю. И. Айхенвальда, одного из ведущих критиков эпохи Серебряного века. Предложенный обзор публикаций Айхенвальда о Пушкине и пушкинистике первой четверти ХХ столетия, анализ отношения Айхенвальда к высказываниям о Пушкине В. Г. Белинского и Д. С. Мережковского позволили рельефней очертить позицию критика, его подходы и методы. Статьи Айхенвальда об Анне Ахматовой, В. Брюсове, И. Бунине показывают, что причастность к пушкинской традиции являлась для Айхенвальда важнейшим эстетическим критерием при оценке современного литературного процесса. Рассматривается также вопрос о восприятии пушкинских штудий Айхенвальда его современниками - литераторами (Б. Зайцев, Б. Садовской, В. Ходасевич), литературоведами (С. А. Венгеров, Б. М. Эйхенбаум, А. П. Скафтымов), историками культуры (П. М. Бицилли) и представителями русской религиозной философии (С. Л. Франк, А. Ф. Лосев). В отличие от историков литературы, для философски мыслящих поклонников критика сам феномен Айхенвальда был лучшим подтверждением несводимости нации к национальности, единства русской культуры и Пушкина как ее главного национальной символа.
Бесплатно

Пушкинская речь Ивана Шмелева: новый контекст понимания
Статья научная
Обычно в исследованиях, посвященных Шмелеву, комментируют второй тезис Пушкинской речи — о «тайне Пушкина». Словами о «тайне» и о «разгадывании» этой тайны заканчивается знаменитая речь Достоевского. Ответ Шмелева заключается в том, что «эту тайну мы как будто разгадали». Однако, как правило, игнорируется первый тезис этой речи, в котором присутствует полное согласие Шмелева с Достоевским. В статье автор полемизирует со своими предшественниками, изучавшими публицистику Шмелева, и интерпретирует это согласие Шмелева с Достоевским. Речь идет о «Божией Правде», которая не только лишь индивидуальная особенность Пушкина, но есть столбовая дорога русской литературы как таковой. И вообще — русской культуры как таковой. «Правда русского народа», она же «Божия правда », она же правда, «принятая нами от купели» Православия, — именно это главное в Пушкине, что стало ясно русским изгнанникам. Стало ясно, в частности, потому что на оставленной ими родине была насильственно прервана почти тысячелетняя русская история; этого, разумеется, не мог и помыслить Достоевский.
Бесплатно

Пушкинская тема в литературной критике И. Ильина
Статья
В литературной критике И. Ильина особое место занимает Пушкин. В жизни и творчестве этого поэта критик особенно подчеркивает его русскость, его неотделимость от России, насыщенность Россией. Мысли, ум Пушкина «критериальны», его традиция «спасительна», «что пребывает в ней, то ко благу России, что не вмещается в ней, то соблазн и опасность». Его поэзия « поющего сердца, рожденная в лоне православия, есть «гимн миро-приятия и Бого-благословения», «чистая и могучая «осанка», впервые сказанная от лица России к России».
Бесплатно
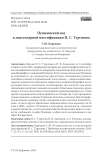
Пушкинский код в эпистолярной мистификации И. С. Тургенева
Статья научная
Письмо И. С. Тургенева к П. В. Анненкову от 14 октября (старого стиля) 1853 г. впервые рассмотрено как «криптографический текст», как своеобразный отклик на завершение Анненковым подготовки к изданию биографии и сочинений Пушкина. Хотя в самом письме имя Пушкина не упоминается, но «пушкинское присутствие» закодировано разными способами: в начале, в «прозаической» части письма - в виде ассоциативно-скрытых намеков на пушкинское творчество и на факты биографии поэта, во второй части, в пасхальном стихотворении, оно получает свое явное обозначение интертекстуальной отсылкой («Минувшее открылось предо мною»). В статье пасхальное стихотворение проанализировано не с точки зрения не решенной до конца проблемы его авторства, а как проявление художественного сознания Тургенева. Писатель, используя криптографические намеки, оценивает вклад Анненкова в дело спасения имени Пушкина, «в числе других обреченных забвению имен» (как напомнит он об этом в 1880 г. в речи о Пушкине), в категориях пасхальности, «большой и радостной вести», в свете которой событие Воскресения Христа становится «эмблемой» судьбы Пушкина, а образ поэта воспринимается как образ Воскресшего.
Бесплатно

Пьесы Б. К. Зайцева в русской драматургии начала ХХ века
Статья научная
Начало XX века - время расцвета русского драматического искусства. Москва и Петербург сделались местом встречи значительного количества художественных талантов, что позволило, опираясь на предшествующую театральную традицию, создавать выдающиеся произведения театрального искусства. Отличительной чертой поэтики новой русской драмы была сюжетная коллизии, исходившая не из внешних событий, а из нарочито случайных импульсивных душевных движений героев. Статья посвящена обзору драматических произведений Б. К. Зайцева, написанных в первой половине XX века. Для пьес этого времени характерны импрессионизм, ассоциативная композиция, нединамичный сюжет. Их содержание отличает напряженный психологизм, противоречивость душевных переживаний и философичность. Ключевыми темами, развивающимися в драмах, становятся тема искупления любовью, поиска духовной цельности и преодоления экзистенциального конфликта, с которым сталкиваются герои.
Бесплатно

Пьянство как грех в творчестве Ф. М. Достоевского
Статья научная
В статье исследована тема пьянства в творчестве Ф. М. Достоевского в аспекте традиции античного пира, на котором вино не только побуждало пирующих к философским беседам и к размышлению о вечных вопросах, но и раскрывало внутреннюю сущность человека - его помыслы и намерения. С чрезмерным употреблением вина также связана античная идея дионисийства - опьянения на празднике Диониса и сопутствующие этому состоянию метаморфозы: потеря человеком человеческого образа и принятие на себя облика звериного. В судьбах героев произведений Достоевского «Бедные люди», «Униженные и оскорбленные», «Записки из подполья», «Преступление и наказание», «Бесы», «Братья Карамазовы» античная традиция сочетается с христианским пониманием пира как бражничества - веселья на пиру и пьянства как греха. На страницах еженедельника Достоевского «Гражданин» пьянство рассматривается как тяжелая болезнь, потоп, пожар, нашествие врага, как катастрофа, поражающая народ России. Античная традиция позволяет раскрыть дополнительные смыслы в трактовке темы пьянства у Достоевского.
Бесплатно

Пятидесятый псалом в рассказе И. С. Шмелёва «Почему так случилось»
Статья научная
В статье рассмотрен рассказ И. С. Шмелёва «Почему так случилось», в котором писатель вскрывает глубинные причины русской революции, явившейся чрезвычайным бедствием для России, и указывает возможные пути выхода из кризиса. В художественном отношении это многоплановый и насыщенный текст с литературными аллюзиями, цитатами и реминисценциями. В статье показано, что уже в выборе книг для чтения проявляется «укорененность» Шмелёва в «христианской традиции» (И. А. Есаулов). Важно, что именно Псалтирь входила в круг чтения автора в то нелегкое время. Отталкиваясь от стихотворения А. С. Пушкина «Воспоминание», которое читает герой рассказа, а также от оценки этого стихотворения В. В. Розановым (в частности от его указания на связь стихотворения Пушкина с 50-м псалмом), автор статьи выявила новые содержательные параллели. Совпадение толкования 50-го псалма с основной мыслью текста Шмелёва в статье рассмотрено впервые. Сюжетно и идеологически рассказ восходит также к роману Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». В статье сделан акцент на работе М. М. Бахтина о поэтике Достоевского (исследуя жанровые и сюжетнокомпозиционные особенности произведений писателя, Бахтин особо выделял диалогический жанр «менипповой сатиры», или «мениппеи») и показано, что присущие мениппее жанровые особенности имеются в рассказе Шмелёва. Рассмотрены такие понятия, как совесть, прегрешение, покаяние, отражающие своеобразие русской культуры и входящие в культурный код русского языка и литературы, что соответствует идеям этнопоэтики. Сделан вывод, что библейские толкования упомянутого в рассказе псалма соотносятся с покаянным содержанием рассказа
Бесплатно

Ранневизантийская традиция в романе «Одиссей Полихрониадес» К. Н. Леонтьева
Статья научная
В статье рассматривается одно из наименее изученных произведений К. Н. Ле- онтьева – роман «Одиссей Полихрониадес». Исследуется проблема взаи- мовлияния античных и христианских традиций в наследии этого художника и мыслителя. Устанавливается один из ключевых мотивов творчества Леон- тьева – «старчество в младенчестве». Делается вывод о близости писатель- ского мировосприятия ранневизантийскому религиозному сознанию.
Бесплатно

Раннее творчество братьев Стругацких: поиск индивидуального стиля
Статья научная
Ранние произведения братьев Стругацких, как и вся советская фантастика 1950-1960-х годов, имеют явно утопический характер, связанный с коммунистическими взглядами авторов. Указанный утопизм определяется концепцией исторического оптимизма, существовавшей в рамках соцреалистической парадигмы. Как следствие, для ранних произведений Стругацких характерно противостояние человека и враждебной природы неисследованных планет. Основной является тема труда ученых и космонавтов. Указанные особенности рассматриваемых произведений позволяют соотнести их с жанром производственного романа. В то же время Стругацкие следуют традиции «твердой научной фантастики», подразумевающей построение фантастического произведения на основе научной гипотезы, которая и должна развиваться вместе с действием. Следствием становятся многочисленные научные обоснования описываемых технических достижений. В поисках своего индивидуального стиля Стругацкие меняют привычный для советской фантастики язык, вводят героя-новичка, что позволяет придать достоверность научным описаниям и пояснениям, немалое внимание уделяют социальным и этическим проблемам, которые станут их визитной карточкой в последующие годы. Уже в этот, ученический, период творчества знаменитые советские фантасты формулируют свое писательское кредо, которому и будут следовать далее: «чудо - тайна - достоверность».
Бесплатно
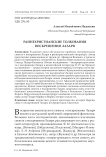
Раннехристианские толкования воскрешения Лазаря
Статья научная
В данной статье обсуждается проблема интерпретации сюжета о воскрешении Лазаря в раннехристианской литературе. Автор представляет новые данные из трудов свт. Афанасия Великого, а также из ранее не переведенных сочинений св. Кирилла Иерусалимского, Дидима Слепца, Псевдо-Климента. Объект исследования - интерпретация сюжета о воскрешении Лазаря в византийской литературе II-IV вв. Предмет исследования - труды авторов указанного периода, в которых мы встречаем толкование данного евангельского сюжета. В результате исследования автор приходит к выводу, что воскрешение Лазаря является одной из важнейших тем для размышления богословов в раннем христианстве. Если в Псевдоклиментинах имя Лазаря только упоминается для придания достоверности данному произведению, то свт. Афанасий напряженно рефлектирует над XI главой Евангелия от Иоанна, находя в ней антиарианские аргументы. Дидим Александрийский оставляет несколько классических комментариев сюжета о воскрешении Лазаря, показывая связь этого библейского повествования с Посланием Павла к Римлянам. Святитель Кирилл Иерусалимский концентрирует внимание читателя на проблеме веры сестер Лазаря Марфы и Марии, которая спасла его.
Бесплатно

Статья научная
В статье исследуется система персонологических характеристик героев-ате- истов у Достоевского, свидетельствующих о плененности злом героев бунта. Ситуация показана с точки зрения христианского сознания старца Зосимы, с помощью которого Достоевский дает ответ на вызовы атеистической идеи.
Бесплатно

Рассказ Л. Н. Толстого «Свечка»: от замысла к художественному воплощению
Статья научная
В статье проанализирована история текста народного рассказа Л. Н. Толстого «Свечка» (1886). Впервые представлены в полном объеме черновые рукописи рассказа (автограф, две авторизованные копии и корректура без авторской правки), которые выстроены в соответствии с хронологией работы писателя над ними. Текстологический анализ позволил сделать вывод о том, что сюжет, система образов, композиция рассказа сложились уже на этапе автографа, однако в копии автор продолжал вносить исправления не столько стилистического, сколько смыслового характера. Главное внимание писателя в ходе творческой работы было сосредоточено на том, чтобы основная идея рассказа - непротивление злу насилием - была понятна и доступна читателю из простонародья, не искушенному в постижении художественных тонкостей произведения. В соответствии с этой задачей в рассказе появляется подробное описание картины крепостнических нравов, резко обостряется конфликт между мужиками и приказчиком, используются евангельские цитаты и финальная моральная сентенция рассказчика, подчеркивающие дидактический пафос повествования. При этом Толстой писал не публицистический трактат, не поучение в религиозном духе, а художественный текст, в котором идея воплощалась различными средствами образной выразительности (с помощью приема контраста и сближения антагонистов при построении системы персонажей, использования художественного образа в заглавии, применения лейтмотивов).
Бесплатно

Рассказ Чехова "Ванька": сюжет, жанр, интерпретации
Статья научная
В современном литературоведении продолжается дискуссия по поводу пересмотра И. А. Есауловым традиционной концепции рассказа А. П. Чехова «Ванька». Исследователь опровергает наивно-эмпирическое истолкование, которое присуще большинству интерпретаций, раскрывает жанровые признаки рождественского рассказа. Общим местом в работах его последователей стали анализ поэтики жанра, атрибутов праздничного хронотопа, незримого присутствия Христа, роли героя рассказа в художественном мире произведения. В школьных интерпретациях рассказа рождественское чудо отрицают на том основании, что оно происходит во сне ребенка, но художественный сон является такой же реальностью, как и любое другое «реальное» событие в произведении. В данной статье показано, что в поэтике рождественского рассказа возможно невозможное, чудо подлинно: дедушка Константин Макарыч читает письмо внука. Ванька тщательно готовился к осуществлению замысла. Он заранее разузнал, как отправить письмо, приготовил бумагу, написал, нашел ближайший почтовый ящик. У него все получилось. Отправив письмо «На деревню дедушке», Ванька совершил поступок, который определил его будущую судьбу. Он стал другим. Чудо, произошло ли оно во сне или наяву, преобразило героя.
Бесплатно

Реализм Достоевского: продолжение спора
Статья научная
Целью работы стало определение связи творчества Ф. М. Достоевского с явлением, обозначаемым в современной науке о литературе терминами «духовный реализм», «христианский реализм», «религиозный реализм», «символический реализм» и т. д. Известно, что писатель работал в жанре реализма, он сам называл себя реалистом, и в его сочинениях нетрудно заметить черты социального, психологического, философского и даже политического реализма. Но при этом в них всегда оставалось что-то еще более значимое и придающее творчеству писателя уникальное своеобразие. Многие современные исследователи полагают, что основы этого явления лежат в общекультурной европейской христианской традиции. Автор статьи, изучив различные исследовательские подходы методом сравнительного анализа, пришел к выводу, что наиболее точным термином, обозначающим особенности художественного метода Достоевского, является «православный реализм». Сам писатель называл свой метод «полным реализмом», а себя - «реалистом в высшем смысле», категорически отвергая имя писателя-психолога. Это обстоятельство не раз привлекало внимание исследователей. В ходе изучения их точек зрения, а также анализа воззрений самого Достоевского на цели и задачи художественного творчества автор статьи заключил, что в основе реализма «в высшем смысле» лежит принцип превращения православного взгляда на мир в художественную образность. Многие черты этого принципа можно заметить во всей русской литературе, но именно Достоевский собрал их воедино, развил и укрепил все наиболее продуктивное, отсеял случайное и неудачное и создал православный реализм как полноценный художественный метод. На основании его были написаны романы 1866-1890-х гг., а также «Дневник Писателя».
Бесплатно

Революционно-демократическая мифология как фундамент советской истории русской литературы
Статья научная
Исследуется кризис в изучении русской словесности. Выявляются его истоки, которые восходят к революционно-демократической мифологии. Указывается на религиозные основания этой мифологии, резко отличающие ее от христианской картины мира. Прослеживается родство между советской историей русской литературы и революционно-демократической критикой. Подчеркивается общий знаменатель: европейский «левый миф», противостоящий христианской традиции.
Бесплатно
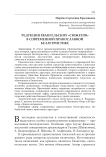
Редукция евангельских «сюжетов» в современной православной беллетристике
Статья научная
В статье проанализированы произведения современных авторов, представляющих особое художественное направление - православную беллетристику, сложившуюся в отечественной словесности последних десятилетий, дана интерпретация библейских сюжетов в художественном тексте. Евангельские сюжеты и мотивы востребованы в современной беллетристике, они диктуют особую структуру повествования. Сюжетная схема, выстраиваемая на основе автобиографического материала в произведениях авторов-священников, в большей степени сохраняет изначальную притчевую структуру, максимально приближенную к первоисточнику. Действие Божьего Промысла осмыслено как исполнение просьбы-молитвы человека, изначально доверяющего Смыслам, заключенным в Евангелии. В произведениях светских авторов знаковыми становятся ситуации иллюзии, розыгрыша, отображающие бездуховное состояние современного общества. Притчевый сюжет сохраняет потребность в авторском толковании, основанном на желании современного писателя обнажить нравственный пафос произведения. Появляется лейтмотив чудесного действия Божьего Промысла в судьбе человека. Аналитическим материалом статьи послужили книга А. Владимирова «С высоты птичьего полета», рассказы М. Яковлева «Пир» и В. Крупина «Ловцы человеков».
Бесплатно

Религиозная идея повести В. Ф. Одоевского «Необойденный дом»
Статья научная
В статье предлагается анализ повести В. Ф. Одоевского «Необойденный дом» (1840) с точки зрения отражения в ней «религиозного чувства», которое было свойственно В. Ф. Одоевскому на протяжении всей жизни писателя. В произведении евангельский текст проявляется в понимании христианства как общенародного «религиозного чувства» с общим смыслом прощения, милосердия и любви. Источниками повести, вероятно, послужили духовные стихи, в издании которых В. Ф. Одоевский позже принимал самое активное участие. Возможными источниками «сказания» могли стать произведения средневековой книжности («Хождение Богородицы по мукам», «Повесть о Савве Грудцыне»), параллели обнаруживаются и с агиографической литературой. «Религиозное чувство» В. Ф. Одоевского состояло в объединении разных пластов русской христианской культуры и утверждении свойственного книжной культуре и устному народному творчеству «радостного христианства», основанного на убеждении в силе милосердия, сострадания к грешникам и конечном спасении души.
Бесплатно

Статья
В статье рассматривается влияние религиозной утопии Н. Федорова на творчество А. Платонова. На материале повести «Котлован» анализируются следующие мотивы, близкие и философии Н. Федорова: мотив сиротства, мотив культа земли, мотив смерти и воскрешения. В статье делается вывод, что религиозная утопия Н. Федорова, скрывающаяся за слоем социалистической утопии, становится своеобразным способом воссоздания утопической действительности и одновременно ее критики. Это свидетельствует о сложной антиутопической стратегии А. Платонова.
Бесплатно

