Статьи журнала - Проблемы исторической поэтики
Все статьи: 940

Славянская азбука: дешифровка и интерпретация первого славянского поэтического текста
Статья научная
Настоящая статья ставит своей задачей предложить и обосновать гипотезу об основном принципе номинации букв и об исходном значении большинства из них как своеобразных "атомов" нашей письменной культуры, долженствующих, по замыслу их создателя, заложить фундамент повседневной духовной практики славян.
Бесплатно

Слова апостольских деяний и посланий в письмах А. П. Чехова
Статья научная
Чехов родился в религиозной семье и с детства приоб щался к церковной жизни. В письмах зрелого периода он называл себя неверующим человеком, однако это не помешало ему использовать би блейские слова и выражения в своих письмах и произведениях. Данная статья посвящена отражению слов апостольских Деяний и Посланий в письмах писателя. Мы рассматриваем все формы такого отражения: точные и неточные цитаты, реминисценции, аллюзии, фразеологизмы новозаветного происхождения и др. Исследование позволяет нам сде лать выводы о степени знакомства Чехова с текстами Деяний и Посланий, частоте и контексте обращения к ним. Кроме того, мы пытаемся ответить на вопрос, почему Чехов, называвший себя неверующим человеком, столь часто обращается к Священному Писанию. Мы объясняем это тем, что библейское слово прочно утвердилось в его тезаурусе. И делаем вы вод, что исследователям и читателям Чехова необходимо знать Библию, для того чтобы понимать язык писателя.
Бесплатно

Словесность русского XVIII века: между ratio просвещения и православной традицией
Статья научная
В статье рассматривается соотношение просветительского рационализма, присущего XVIII веку, и русской православной традиции. Автор ставит проблему — действительно ли в русской словесности этого периода доминирует ветхозаветный Бог, как это полагал Ю. М. Лотман и другие исследователи, а значит Закон, либо же сами ветхозаветные тексты русскими писателями рассматривались сквозь новозаветную призму Благодати из-за доминантных для русской культуры соборности, пасхальности и христоцентризма. Так, Псалтырь в русской православной традиции вовсе не репрезентирует ветхозаветного Бога, а представляет уже новозаветное христианизированное Его понимание. В культурном бессознательном русского человека, оказывавшем сильнейшее воздействие на личное творчество наших поэтов, Псалтырь — неотъемлемая часть именно Православной Церкви, церковного православного богослужения. Анализируя переложения псалмов русскими поэтами XVIII века, нельзя игнорировать это обстоятельство. В статье демонстрируется воздействие православной традиции на поэтику такого древнего жанра, как басня. Автор статьи восстанавливает научный контекст последнего десятилетия XX века и намечает новые перспективы в изучении переходной эпохи от русского средневековья к Новому времени.
Бесплатно

Слово как творение души: сказ в романе И. С. Шмелева “Няня из Москвы”
Статья
Природа сказовой формы у Шмелёва и её возможности до сих пор открыты для всестороннего их изучения. В статье автор останавливается на романе "Няня из Москвы" как ярчайшем примере новаторства писателя в контексте его собственного предшествующего творчества и русской классики.
Бесплатно

Смыслопорождающая роль библейского текста в повести Л. Ф. Нелидовой "Полоса"
Статья научная
Знаковая для завершающего этапа литературы русского классического реализма повесть Л. Ф. Нелидовой «Полоса» рассматривается с позиций комплексного подхода к изучению художественного творчества. Анализируется роль ветхозаветного и новозаветного текстов в процессе формирования идейно-эстетического содержания произведения, идентифицируется в качестве доминантной смыслообразующая функция библейских отсылок, цитат, реминисценций, аллюзий и парафраз, которыми определяется последовательность текста, создающая смысловое поле художественного целого. Новаторство автора обусловлено использованием литературных традиций Достоевского (ориентация на идею «найти в человеке человека» и на константу «живая жизнь»). Как «смысловое целое» повесть Нелидовой организуется внутренним диалогом трех концепций «жизни», одна из которых основана на христианском учении, другая - на апелляции к науке, третья - на представлении о жизни как всеподчиняющей объективной силе. Авторская нравственно-эстетическая позиция ориентирована на библейскую концепцию жизни, она опредмечивается в логике смысловой актуализации евангельских истин, связанных с трактовками вечной темы борьбы добра и зла, путей спасения человека, преодоления греха помыслов, гордыни, эгоизма. Художественный историзм повести, проявляющийся в освещении социальных противоречий пореформенной России, санкционирует авторскую интенциональность, связанную с утверждением общечеловеческих духовных, нравственных и гуманистических идеалов. Смыслоформирование осуществляется средствами активизации интертекстуальной, гипертекстовой и контекстной функциональности библейских претекстов, традиций православной культуры и реализуется в процессе освещения конфликтов времени и психологического раскрытия характеров. В статье показано, как интертекстовые реминисценции и цитаты из библейских источников, творений христианских писателей-аскетов и святоотеческой литературы маркируют процесс нравственного становления героя и объективируют аксиологическую систему, определяющую авторскую позицию в данном произведении. Доказывается, что средствами взаимной семантизации образов, закрепленных в сакральных текстах, достигается цель изображения закономерных духовных поисков и выхода из нравственного тупика главного героя повести. Содержательный прием цитатного мышления автора, актуализирующего роль библейских претекстов, рассмотрен в парадигме исторической поэтики - как факт формирования традиций в создании текстом собственного смысла посредством ссылки на другие тексты.
Бесплатно
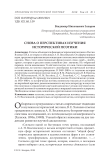
Снова о перспективах изучения исторической поэтики
Статья научная
В статье объясняется феномен исторической поэтики в России. В конце XIX в. ее открыл и обосновал А. Н. Веселовский. Он сформулировал идею, предложил оригинальную концепцию поэтики, ввел новые категории анализа. Ими стали заимствованные французские слова “sujet”, “motif”, “genre”, которые в русском языке изменили свое значение. Их «обратный перевод» почти невозможен. То обстоятельство, что они стали ключевыми категориями, во многом определяет своеобразие исторической поэтики в отечественном литературоведении. В 1940-1980-е гг. изучение истории литературы в категориях поэтики увлекло таких выдающихся ученых, как В. М. Жирмунского, В. Я. Проппа, Е. М. Мелетинского, М. М. Бахтина, Д. С. Лихачева, С. С. Аверинцева, А. В. Михайлова. Их примеру последовали многие. В политических условиях 1950-1980-х гг. историческая поэтика позволяла отказаться от догматизма партийной критики, давала возможность изучать литературу и искусство без политики и ограничений советской идеологии. Сегодня изучение исторической поэтики в основном определяется инерцией начального ускорения. Необходимы новые идеи, концепции, оригинальные исследования.
Бесплатно
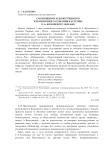
Соотношение художественного и религиозного сознания в эстетике В. А. Жуковского (1830-1840)
Статья научная
Автор исследует один из поздних периодов отношения Жуковского к религии. Проблема веры, христианская скорбь как ключевое понятие психологической концепции Жуковского, взаимоотношения поэта с декабристами, внутренняя связь Жуковского и Гоголя в 40-е годы – ключевые проблемы, которые рассматриваются в статье.
Бесплатно

Софийная «Омоусия» П. А. Флоренского
Статья научная
Анализ книги «Столп и утверждение истины» (1914) и представленной здесь софиологической доктрины, соотносимой с подходами иных русских софиологов, демонстрирует общую проблематичность попыток православного обоснования идеи Софии и одновременно оригинальность позиции П. А. Флоренского. Преодолеть софиологические апории и комплекс религиозно-модернистской идейности мыслителю не удалось, однако Флоренский обосновал особую, формалистическую по сути, символическую по внешности концепцию «софийности» мироздания, опирающуюся на авторскую теорию «антиномического» познания и превратно истолкованный догматический принцип единосущия (триединства). В результате София оказалась изоморфна Святой Троице и одновременно тварному миру. Парадигматика мышления Флоренского обнаруживает, помимо гностической основы, некий уклон в сторону постмодернистского (в широком смысле) сознания, отчего, собственно, философ и востребован в современной гуманитарной среде.
Бесплатно

Статья научная
Тема софийности, характерная для русской религиозно-философской мысли конца XIX - первой трети XX в., впервые рассматривается в статье применительно к художественному и философскому творчеству Валериана Николаевича Муравьева (1885-1930). В философской мистерии «София и Китоврас» (1921-1925) Муравьев соединяет две линии разработки софиологической темы - богословскую и художественную. Cофия предстает на страницах мистерии как идеальный образ мира и человека и одновременно ее образ связан с темой смысла любви, с этикой преображенного Эроса. Показано, как ключевая сцена мистерии - молитва к Софии всей природы и всего человечества и следующее за молитвой общее дело преображения мира - переходит в другие художественные замыслы Муравьева, отражается в набросках сказки «Полоненое царство» (1925) и в неопубликованном романе «Остров Буян» (1926-1928). В свете софийного сюжета рассмотрена драма философа «Советник смерти» (1927-1928). Показаны автобиографические истоки софийной темы у Муравьева.
Бесплатно

Специфика жанра притчи в древнерусской литературе
Статья научная
В статье рассмотрены концепция жанра притчи в древнерусской литературе, ее значение и отличие от других жанров русской литературы.
Бесплатно

Статья научная
Статья посвящена анализу исследовательских толкований библейского текста в романе «Преступление и наказание» Достоевского. В работе выделяются случаи разночтений в определении источников и характера функционирования библейских аллюзий и цитат в романном сюжете, исследуются причины этих разночтений, определяются критерии изучения библейского текста в творчестве Достоевского. Для более полного и точного понимания межтекстовых взаимосвязей необходимо исследование библейских интертекстов не только на текстуальном, но и на сюжетно-образном уровне, так как семантика тех или иных цитат и аллюзий в конечном счете определяется особенностями их включения в авторский текст и их взаимодействия с культурной традицией, представленной не только в библейском тексте, но в духовной литературе, а также в народном восприятии библейских сюжетов.
Бесплатно

Спор о церковном суде в романе "Братья Карамазовы" (Ф. М. Достоевский и Вл. С. Соловьев)
Статья научная
В двух главах книги второй «Братьев Карамазовых» Ф. М. Достоевского («Буди, буди!» - гл. V, «Зачем живет такой человек!» - гл. VI) разворачивается спор о церковном суде. Здесь отчетливо звучат мотивы «социального христианства», ранее не отмечавшиеся исследователями. В этом споре имеет место определенная соотнесенность образа мыслей героев - в отдельных случаях достаточно точная - с конкретными взглядами некоторых русских мыслителей на отдельные вопросы или даже с целыми направлениями общественной мысли. В настоящем исследовании показано, что Иван Карамазов излагает (хотя и не очень верит в нее) теократическую утопию Владимира Соловьева о будущем перерождении государства во «Вселенскую Церковь». Другой участник спора, отец Паисий, придерживающийся славянофильских воззрений, горячо принимает и соловьевскую утопию, которая из них вытекает. Этой утопии, представленной в романе одновременно умозрительной и рационалистически обоснованной идеей Ивана Карамазова, Достоевским противопоставлен земной, гуманистический и вполне достижимый идеал «Вселенской Церкви». Зачатки этого идеала, по словам высказывающего его старца Зосимы, присутствуют в русском обществе, и это залог того, что он вполне осуществится в будущем.
Бесплатно

Спор с Достоевским о «Бесах»: проблема непонимания романа в прижизненной критике
Статья научная
В статье дан критический анализ отзывов на журнальные и книжные редакции романа «Бесы» 1871–1873 гг. Особое внимание уделено религиозным аспек- там, которые не приняли первые критики романа.
Бесплатно
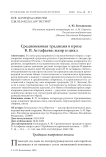
Средневековая традиция в прозе В. П. Астафьева: жанр и цикл
Статья научная
В статье рассматривается малоизученный вопрос о претворении жанровой традиции русского Средневековья в литературе второй половины ХХ века, уточняются категориальные координаты его решения, оспариваются исследовательские подходы, искусственно разделяющие единое движение русской литературы от времен Илариона и Аввакума до наших дней. На примере книги В. П. Астафьева «Затеси», объединившей малую прозу писателя по принципу циклизации произведений на основе общих стилистических и тематических признаков, автор приходит к выводу о художественной актуальности этого приема, берущего начало в средневековых сборниках, в устремленности их составителей к творчеству «вне жанровых традиций» (Д. С. Лихачев). Но если в эпоху Средневековья эта устремленность больше обусловлена сюжетно-тематическими задачами, то в Новое и Новейшее время сверхжанровое единство сборника, книги - результат усиления композиционной роли автора в их структурной организации, художественной индивидуализации его образа.
Бесплатно

Статья научная
Статья посвящена проблеме восприятия Н. С. Лесковым Пролога XVII века. С 1870 по 1890-е годы писатель давал противоречащие друг другу характеристики функционального предназначения Пролога, истории его бытования и издания в России - от книги, назначаемой церковью для благочестивого и назидательного чтения и помогающей «уразуметь Слово Божие», до лишения ее вовсе церковного авторитета. Начиная с 1886 года, Лесков называл Пролог книгой «отреченной», «неканонической». Анализ архивных материалов позволил подтвердить высказанное ранее в науке предположение о том, что писатель называл «отреченной» полную печатную редакцию Пролога, изданную в Синодальной типографии в 1642-1643 годы. Именно эта редакция не была подвергнута «книжной справе» в ходе никоновских реформ. Древность и сохраненность памятника всегда оставались для писателя определяющими критериями. Подобные характеристики не лишены реальной основы и зиждятся на научно доказанных в XIX веке наблюдениях. Удалось установить, что существенное влияние на Лескова в выработке собственной позиции оказала монография профессора Киевской духовной академии Н. И. Петрова «О происхождении и составе славяно-русского печатного Пролога (Иноземные источники)» (Киев, 1875). Лесков совершил незамысловатый творческий ход. Он перевел факт научный - «неканоничность» «допетровского» Пролога - в факт литературный. За стратегией наделить Пролог редакции 1642-1643 годов статусом «отреченного» скрывается не только эвристический поиск Лескова в области истории его публикации, но и поиск художественный. Учитывая «подконтрольность» своих произведений, написанных по сюжетам Пролога, со стороны цензуры, писателю был необходим выход к новому языку «тайнописи». Обращение к «неканоничному» Прологу в качестве литературного источника обернулось для него свободой творческого самовыражения. За проложными ситуациями и образами скрывается второй, «неканоничный» план - вряд ли вписывающиеся в цензурные рамки XIX века авторские размышления о проблемах веры, праведничества, грехопадения, деятельной любви.
Бесплатно

Статус двойного эпиграфа к поэме «Твой путь» О. Ф. Берггольц
Статья научная
Эпиграфы к произведениям О. Ф. Берггольц до настоящего времени специально не изучались. Двусоставный эпиграф к поэме «Твой путь» (1945) при жизни поэтессы не был допущен к печати и впервые обнародован только в 1989 г. На первой позиции эпиграфа находится библейская цитата из 136-го псалма, начинающегося словами «Аще забуду тебя, Иерусалиме…»; на второй - строка «Умри - и стань!» из стихотворения «Блаженное томление» Гете. Библейская цитата являлась для поэтессы прецедентным текстом и жизненной установкой задолго до написания поэмы «Твой путь». Блокадный Ленинград осмыслялся Берггольц как «ленинградская Иордань». Образ блокадной Иордани (позднее исключенный редакторами и/или цензорами) - важнейший знак, указывающий на семантическую связь библейского эпиграфа с текстом поэмы. Берггольц выстраивала единое духовное пространство и задавала вектор: «Иерусалим» - «ленинградская Иордань»; приобщение к «жгучим» водам священной реки означало усвоение горького блокадного опыта. Одновременно Берггольц выстраивала вертикальный контекст: воды Иордани символизировали возрождение к новой жизни (крещение), открытие человеком самого себя. Образ ленинградской купели коррелировал с эпиграфом из Гете, в котором тема инициации заявлена эксплицитно. Автор статьи предположила, что эпиграф «Умри - и стань!» планировался Берггольц к поэме «Февральский дневник» (1942), но был исключен из текста А. П. Гришкевичем, заведующим сектором печати Ленинградского горкома ВКП(б). Изречение Гете стало девизом поэтессы со времен репрессий «по делу Авербаха» (1937). Двойной эпиграф задавал смысловую и философскую перспективу поэме «Твой путь». Редакторское вторжение (исключение эпиграфов и строки о «ленинградской Иордани») разрушило связь заглавия с эпиграфом и текстом, обеднило восприятие поэмы читателем-современником. Двусоставный эпиграф коррелирует со всем блокадным нарративом Берггольц, акцентируя темы памяти и инициации как духовного становления ленинградца-блокадника.
Бесплатно

Статус двойного эпиграфа к поэме О. Ф. Берггольц "Твой путь"
Статья научная
Эпиграфы к произведениям О. Ф. Берггольц до настоящего времени специально не изучались. Двусоставный эпиграф к поэме «Твой путь» (1945) при жизни поэтессы не был допущен к печати и впервые обнародован только в 1989 г. На первой позиции эпиграфа находится библейская цитата из 136-го псалма, начинающегося словами «Аще забуду тебя, Иерусалиме…»; на второй - строка «Умри - и стань!» из стихотворения «Блаженное томление» Гете. Библейская цитата являлась для поэтессы прецедентным текстом и жизненной установкой задолго до написания поэмы «Твой путь». Блокадный Ленинград осмыслялся Берггольц как «ленинградская Иордань». Образ блокадной Иордани (позднее исключенный редакторами и/или цензорами) - важнейший знак, указывающий на семантическую связь библейского эпиграфа с текстом поэмы. Берггольц выстраивала единое духовное пространство и задавала вектор: «Иерусалим» - «ленинградская Иордань»; приобщение к «жгучим» водам священной реки означало усвоение горького блокадного опыта. Одновременно Берггольц выстраивала вертикальный контекст: воды Иордани символизировали возрождение к новой жизни (крещение), открытие человеком самого себя. Образ ленинградской купели коррелировал с эпиграфом из Гете, в котором тема инициации заявлена эксплицитно. Автор статьи предположила, что эпиграф «Умри - и стань!» планировался Берггольц к поэме «Февральский дневник» (1942), но был исключен из текста А. П. Гришкевичем, заведующим сектором печати Ленинградского горкома ВКП(б). Изречение Гете стало девизом поэтессы со времен репрессий «по делу Авербаха» (1937). Двойной эпиграф задавал смысловую и философскую перспективу поэме «Твой путь». Редакторское вторжение (исключение эпиграфов и строки о «ленинградской Иордани») разрушило связь заглавия с эпиграфом и текстом, обеднило восприятие поэмы читателем-современником. Двусоставный эпиграф коррелирует со всем блокадным нарративом Берггольц, акцентируя темы памяти и инициации как духовного становления ленинградца-блокадника.
Бесплатно

Стиль “ornatus difficilis” в «Слове о полку Игореве»
Статья научная
Мнения ученых по поводу того, насколько текст «Слова о полку Игореве» был понятен для современников, разделились. Одни полагали, что «Слово» - произведение народное в самом глубоком смысле этого слова, что его художественное существо было широко доступно всем. Другие настаивали на том, что утонченно-образный стиль произведения требовал от читателей высокого развития, что сделало его произведением для немногих. Д. И. Чижевский, Р. О. Якобсон и другие ученые сопоставляли стиль «Слова о полку Игореве» со стилем “ornatus difficilis” западно-европейской поэзии XII-XIII вв. Для него были характерны, по наблюдению Р. О. Якобсона, приемы загадок, сжатый намек вместо подробного повествования, заведомая разнородность языковых средств, использование неологизмов, сложная игра тропов и фигур, нарочитое совмещение несродных жанров и источников, сочетание языческих и христианских элементов. По справедливому замечанию В. В. Колесова, эта слишком широкая характеристика стиля «Слова» еще нуждается в аргументации. Для подтверждения гипотезы о принадлежности «Слова о полку Игореве» к произведениям стиля “ornatus difficilis” в настоящей статье рассмотрены некоторые не до конца разгаданные чтения памятника, понимание которых затруднено стилистическими приемами, связанными с использованием лексики и фразеологии: индивидуально-авторских или редких слов, диалектизмов, многозначных слов и словосочетаний, порождающих в тексте двусмысленность (амфиболию), а также фразеологических окказионализмов.
Бесплатно

Стихотворение М. Ю. Лермонтова "Свиданье" (1841): история текста, архитектоника, смысл
Статья научная
В статье рассматривается процесс становления поэтики стихотворения М. Ю. Лермонтова «Свиданье» (1841) от черновика к беловику. Реконструкция творческой истории текста позволяет выявить особенности мышления автора, путь создания художественной реальности в ее пространственной и предметной оформленности. В процессе творческой работы над стихотворением меняются пейзажные детали, зрительные планы, образ лирического героя. В статье впервые подробно описан процесс создания стихотворения, которое рассматривается как контаминация яви, сна и переходных состояний между ними. Незавершенность текста представляется как художественный прием, формирующий смысловое содержание стихотворения, в том числе достоверно иллюстрирующий феномен сна. Явленная через текст поэтическая личность Лермонтова предстает как яркая индивидуальность, опирающаяся на глубокое знание психологии и онтологии человека (через призму христианской парадигмы), мысли и действия которой определяются состоянием души.
Бесплатно

Стихотворение М. Ю. Лермонтова «К портрету» (1840): поэтика текста и образа
Статья научная
В статье рассмотрены история и поэтика стихотворения М. Ю. Лермонтова «К портрету» (1840). Материалом исследования стали три рукописи стихотворения: содержащий многочисленную правку черновой автограф из собрания С. А. Рачинского, перебеленный автограф с пометами В. Ф. Одоевского и П. А. Вяземского, а также еще один беловик стихотворения, оказавшийся в 1844 г. в коллекции Карла Августа Фарнхагена фон Энзе. Посредством реконструкции истории текста прослеживаются особенности поэтики Лермонтова. Работая над стихотворением, автор последовательно отказывался от экфрастичного характера изображения, обусловленного обращением к конкретному артефакту - гравюре Пьера Луи Анри Греведона «Портрет женский в рост, сидя, в открытом платье» (1840). Используя череду ассоциаций, сравнений, противопоставлений, поэт создает образ молодой женщины. Внимание к динамической поэтике словесного портрета графини А. К. Воронцовой-Дашковой позволило показать, как Лермонтов усложнял ее образ. Анализ черновых вариантов, конструируемых в беловике многочисленных антиномий, изменения названия позволил преодолеть штампы восприятия стихотворения и дать его трактовку в контексте русской культурной традиции.
Бесплатно

