Зарубежные литературы. Рубрика в журнале - Новый филологический вестник

Семантика временных трансформаций в произведениях Д. Годровой
Статья научная
АВ статье рассматривается функционирование категории времени в произведениях Д. Годровой. В первой половине статьи представлен анализ времени в теоретических работах исследовательницы («Поиск романа», «Чувствительный город: эссе о мифопоэтике» и др.). В трудах Годровой-теоретика можно выделить несколько ключевых для характеристики времени понятий таких как «движение романа», «граница», «внутреннее и внешнее время». Принципиально важным, на наш взгляд, является вопрос о разграничении «внутреннего» и «внешнего» времени в романе, а также функционирование того, что Годрова называет «вечное время». «Вечное время» Годровой протекает только в «местах с тайной», которые, по сути, функционируют как гетеротопии. Во второй части статьи данные аспекты рассматриваются применительно к художественному творчеству Годровой. Романы Годровой-писательницы представляют собой сложное постмодернистское повествование, романы-инициации, ключевой темой которых можно назвать проблему памяти (индивидуальной и/или коллективной). В статье выделяются три базовых принципа построения нарратива памяти: нарушение логичного изложения последовательности событий с целью создания особого безвременья в произведении, нарушение синтаксической и грамматической структуры предложений для акцентирования внимания на акте письма, мотив инициации. Годрова также рассматривает время не только как условность художественной реальности, но и как субъект произведения. Время-субъект в произведениях оказывается вовлеченным в постмодернистскую философскую игру. Годрова, таким образом, экспериментирует со временем, стараясь проникнуть в его эсхатологическую суть, вернуть время к себе.
Бесплатно

Семантика заглавия в поэтическом сборнике Т. Хьюза «Пещерные птицы»
Статья научная
В статье исследуется структура и интертекстуальные функции заглавия поэтического сборника «Пещерные птицы» («Cave birds», 1975), созданного английским поэтом Т. Хьюзом и иллюстрированного американским художником Л. Баскиным. По мнению критиков, изобилие алхимических метафор и символов, интермедиальность, а также имплицитный мифический нарратив, логике которого следуют стихотворения, делают книгу семантически насыщенной и сложной для восприятия. Полисемантический характер имеет сам заголовочный комплекс, что проявлено на уровне его композиции (название, подзаголовок, маркирующий жанровые признаки книги, а также первоначальное название, не включенное в опубликованную версию сборника). Функциональные аспекты заглавия определяются в опоре на труды отечественных исследователей (Арнольд И.В., Гальперин И.Р., Кожина Н.А., Кржижановский С.Д.). Семантические элементы финального заголовочного комплекса («пещера», «птицы», «алхимия», «драма»), а также первоначального названия сборника, анализируются в соотношении со структурой авторского мифа Т. Хьюза и его основными концептуальными элементами. В статье объясняется, как жанровое решение и усложненная символика, предвосхищаемые в заглавии, знаменуют этап общей эволюции поэтики Т. Хьюза: если в ранних сборниках полифония была внутренним свойством отдельных поэтических образов, то в книгах зрелого периода наблюдается многозвучная структура отношений между стихотворениями, а также различными персонажами, встроенными в единый квестовый сюжет.
Бесплатно

Семантика и функции рунических знаков в авторских «подписях» древнеанглийского поэта Кюневульфа
Статья научная
Рунические знаки, которые использовал древнеанглийский поэт Кюневульф, чтобы включить свое имя в концовки четырех аллитерационных поэм («Елена», «Судьбы апостолов», «Юлиана», «Христос»), анализируются в связи с функциональной направленностью и жанровой спецификой текстов, передающих лирико-дидактические размышления поэта о бренности мира, Страшном Суде и собственной участи. Руны выполняют в указанных текстах двоякую функцию: идеографическую (заменяют требуемые по содержанию слова) и фонематическую (складываются в имя поэта). Однако использование в роли имени руны служебного слова говорит о том, что связь между означаемым и означающим становится произвольной, что ведет к усилению принципа асимметричного дуализма рунического знака, то есть возникновению омонимии, полисемии и синонимии. С этим согласуется как возможность появления одной руны в разных значениях, так и возможность смыслового варьирования одного концепта в разных контекстах. Руны выступают в поэмах Кюневульфа не просто как унаследованные из языческих культов сакральные знаки, чье звучание и значение предопределено традицией ритуального употребления, но как элементы поэтического языка, чьи функции и семантика определяются развертыванием эпической темы. Имя Cynewulf, вместе с составляющими его именами рун, выступает как «микротекст», как конспект «гномического» текста, или даже лирического монолога, раскрывающего одну из аксиом христианского мироощущения - ощущения непрочности земной жизни. Вместе с тем, обращение поэта к аудитории и высшим силам сближает анализируемые фрагменты с так называемой «актуальной» поэзией, способной оказать влияние на ситуацию. Имя поэта, запечатленное руническими знаками, выступает необходимым условием актуализации его молитвы, причем ее сила связывается и с силой воздействия на аудиторию его поэтического искусства.
Бесплатно

Символ «нилуфар-э кабуд»в романе Садега Хедаята «Слепая сова»
Статья научная
В статье рассматривается символическое значение образа цветка, обозначенного словосочетанием «нилуфар-э кабуд», в романе иранского писателя-модерниста Садега Хедаята «Слепая сова». Прежде исследователи усматривали в образе «нилуфар-э кабуд» преимущественно универсальные смыслы, в настоящем же исследовании акцент сделан на его национальных корнях, связанных с иранскими древними верованиями и иранским искусством, а также элементами ряда других культур, которые оказали влияние на Хедаята. В персидском языке лексема «нилуфар» полисемична и может обозначать, и лотос, и ипомею, что делает образ, используемый Хедаятом, неоднозначным и многослойным, как и сам роман, созданный в традициях модернистской поэтики. Используя прилагательное «кабуд» (фиолетовый / синий / голубой) вместо традиционного для фарси «аби» (синий / голубой) в сочетании с «нилуфар», Хедаят добавляет новые смысловые обертоны, связанные с древнеиранскими узорами хатаи, зороастризмом и более древними иранскими культами, а также древнеиндийской и древнеегипетской культурой. Результаты анализа показали, что образ «нилуфар-э кабуд» носит амбивалентный характер, соединяя высокое и низкое, прекрасное и безобразное, блаженство и боль, жизнеспособность и смертельную угрозу, смерть и бессмертие, величественное прошлое Ирана до арабского завоевания и бесславное настоящее Персии начала ХХ в. В его семантическое поле входят древнеиранские орнаменты, очарование старины, боль от утраты связи с нею, образы синяка, раны, увечья, скованности, удушья, безнадежности, безжизненности, гибельности.
Бесплатно

Статья научная
В статье анализируется фрагмент романа Э. Бёрджесса «Заводной апельсин» с точки зрения используемых языковых средств создания динамической ситуации наблюдения (кинематографичности по И.А. Мартьяновой) в оригинале и переводах на славянские языки (русский, польский, украинский). Смена пункта наблюдения, сопровождающая смену планов и регистров повествования, в прозе выполняет функцию, аналогичную движению камеры в кино, придавая ей своеобразный кинематографический динамизм. Выбор предпочтительных форм субъективации в каждом из переводов определяется как внутриязыковыми особенностями оформления конструкций такого рода, так и переводческими стратегиями, нацеленными на перемещение пункта наблюдения в нарративе. Для перемещения фокуса повествования и создания кинематографического эффекта смены планов в интерпретационном переводном нарративе используются разные средства: различные формы обращения к читателям, изменение формы повествования - с перволичной на третьеличную, трансформация определенных, неопределенных или обобщенных личных форм глагола, а также изменение глагольного времени действия - с прошлого на настоящее. Дополнительная динамика создается благодаря чередованию акциональных глаголов и активных конструкций (с частноперцептивными глаголами звукового действия в безличной форме) с пассивными конструкциями (в том числе характерными для украинского и польского языков формами соответственно на -но, -то и -no, -to).
Бесплатно

Статья научная
Противостояние дневной и ночной сторон человеческой природы – одна из констант творчества Г. фон Клейста. В статье рассматривается космологическая образность «Амфитриона», «Пентесилеи», «Кетхен из Гейльброна» и «Принца Гомбургского» в контексте взглядов Клейста на природу знания. Солярные мотивы в его произведениях символизируют творческий процесс как таковой и тем самым отражают процесс авторской саморефлексии, что показано на многочисленных примерах. Начиная с раннего стихотворения «Гимн Солнцу», образ сияющего божества переходит из одного произведения в другое. В «Амфитрионе» такой фигурой предстает непосредственно глава античного Пантеона Юпитер. В «Пентесилее» Ахилл отождествляется с богом Солнца Гелиосом, и может рассматриваться в качестве ипостаси Аполлона-Феба. Конфликт Ахилла и Пентесилеи предстает как борьба солнечного и лунного, мужского и женского начал, пары близнецов Феба и Дианы в соответствии со структуралистской типологией. В «Кетхен из Гейльбронна» граф фом Штраль представляет собой видоизмененного Ахилла и Юпитера. Мотив «тысячи солнц», означавший для Пентесилеи победу над Ахиллом, в «Принце Гомбургском» символизирует победу над страхом смерти. Если в «Пентесилее» солнечная и лунная символика поделена между двумя протагонистами, принц Гомбургский совмещает в себе обе ипостаси. Для Клейста творческое, аполлоническое (солярное) начало подавляется силами сна, безумия и разрушения, определяемыми лунной природой. В конце статьи анализируется публицистический текст «Молитва Зороастра», где мы видим еще одну версию солярного мифа у Клейста.
Бесплатно
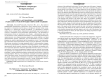
Сравнения в "Аргонавтике" Аполлония Родосского: трансформация эпической традиции
Статья научная
Аполлоний Родосский, ученый поэт III в. до н.э., был одним из реформаторов традиционного героического эпоса. Посвятив поэму «Аргонавтика» сюжету о похищении золотого руна, в центральном эпизоде поэмы он рассказывает не о героических подвигах аргонавтов, а о зарождении и развитии любви к Ясону в сердце Медеи. Лирический и волшебный сюжеты (последний, в отличие от гомеровских поэм, рассказывает повествователь, а не персонажи) не единственное отличие от героических поэм Гомера, - «Аргонавтика» имеет черты киклического эпоса (линейная композиция) и этиологической разновидности дидактического эпоса (происхождение современных автору обрядов и история происхождения городов). Сравнение, часто встречающееся в поэме, особенно развернутое, является характерной чертой гомеровского стиля. Статья рассматривает изменения, которые произошли в языке и структуре сравнения у Аполлония. Обновление лексического состава сравнений вместе с использованием гомеровской лексики, варьирование устоявшихся гомеровских формул делают сравнения органической частью позднего эпического языка. Изменение соотношения объекта и признака сравнения, появление сравнений в бытовых сценах, а не только в героических, в том числе в посвященных морской тематике эпизодах, использование сравнений для изображения чувств отвечает новым интересам читательской аудитории: в центре внимания оказывается внутренний мир человека, а также все экстраординарное. Вместе с тем сохраняется тенденция использовать сравнения чаще в батальных сценах. Как средство субъективной оценки сравнения дают голос автору, позволяя менять интонацию от иронии к состраданию или восхищению. Многочисленные опознаваемые аллюзии к Гомеру подчеркивают диалог и полемику, которые ведет Аполлоний со своим предшественником.
Бесплатно

Сравнения в речи персонажей в «Аргонавтике» Валерия Флакка: развитие эпической традиции
Статья научная
Речи персонажей являются традиционным элементом эпического жанра и в «Аргонавтике» Валерия Флакка характеризуются отражением роли риторики в римской общественной жизни эпохи Флавиев, когда риторические приемы становятся неотъемлемой частью языка поэзии. Среди средств, которые усиливают выразительную силу речи, значимую роль играют сравнения. В статье проводится анализ использования художественного приема сравнения в прямой речи персонажей в «Аргонавтике» Валерия Флакка. Исследование проводится сплошным методом с целью определения коммуникативных контекстов на горизонтальной и вертикальной оси повествовательного полотна, в которых речи персонажей содержат сравнения, выявления внутри- и интертекстуальных параллелей и различий, установления функций сравнений, а также проведения сопоставительного анализа с предшествующей эпической традицией. Сделанные наблюдения позволяют прийти к выводам, что в «Аргонавтике» Валерия Флакка сравнения в речах персонажей служат для выражения эмоций в драматических моментах повествования, демонстрируя в этом аспекте связь между эпосом и трагедией. Кроме того, сравнения являются ключом к пониманию характеров и мотивации героев, а также имеют непосредственное отношение к развитию сюжета, особенно в сценах пророчества и речах дипломатического характера. Как и в предшествующей традиции, поэт использует прием концентрации сравнений в отдельной книге, демонстрируя при этом вариативность коммуникативных контекстов. В то время как в «Энеиде» сравнения в речах персонажей сосредоточены во вставном рассказе Энея, в «Аргонавтике» их наибольшее количество приходится на четвертую книгу поэмы, которая отличается разнообразием сцен и эпизодов, а также включает вставной рассказ Орфея. Общей характеристикой обеих поэм также является отсутствие сравнений в речах персонажей в сценах сражений и поединков, как военных, так и спортивных. В эмоционально-психологическом изображении Медеи Валерий Флакк следует примеру Вергилия в описании противоречивых чувств Дидоны - в обеих поэмах монологи героинь не содержат сравнений, в отличие от «Аргонавтики» Аполлония Родосского. Создавая сложную картину образов и опознаваемых аллюзий на произведения литературных предшественников, сравнения в речах персонажей помогают выявить как традиционные, так и новаторские элементы, которые свидетельствуют о разнообразии художественных намерений и установок автора
Бесплатно

Статья научная
Статья представляет собой исследование фрагмента романа Э. Берджесса «Заводной апельсин» (гл. 4 второй части) и его переводов на чешский, сербский и хорватский языки. В центре внимания автора статьи – языковые средства, служащие для создания эффекта т.н. «литературной кинематографичности» – т.е. формирования в тексте динамической ситуации наблюдения. Этот эффект реализуется на уровне лексики, грамматики, композиции текста. Рассмотрены ключевые приемы, благодаря которым в романе достигается этот эффект: использование перцептивной лексики (глаголов зрения и слуха, звукоподражаний) и стратегии смены фокализации через формы лица и времени. Эти приемы в той или иной степени сохраняются во всех переводах романа. В темпоральной организации переводы в основном следуют оригиналу с его противопоставлением плана настоящего плану прошлого, в сербском тексте, однако, активно используется аорист для дискурсивного выделения ключевых и неожиданных событий, тогда как в хорватском переводе оппозиция аориста и перфекта отсутствует. Чешский и хорватский переводы максимально сохраняют конструкции с местоимением 2 л., соответствующим английскому you, актуализируя диалог нарратора с читателем, в то время как в сербском переводе они нередко заменяются неопределенно-личными конструкциями, что снижает непосредственность взаимодействия с читателем. Таким образом, в переводах текста на славянские языки мы наблюдаем либо следование авторской стратегии (например, в противопоставлении темпоральных планов прошлого и настоящего или в смене точки наблюдения), либо введение альтернативных оппозиций, актуальных лишь для переводного нарратива (в сербском переводе это противопоставление аориста и перфекта в плане прошлого).
Бесплатно
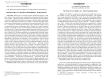
Творчество А.П. Чехова в рецепции А. Наим (Ирак)
Статья научная
Творчество А.П. Чехова вызывает неизменный интерес в арабских странах. Свою сценическую интерпретацию произведений Чехова предложила А. Наим - драматург, актриса, режиссер и исследователь. Новизна авторского подхода к проблеме заключается во введении в научный оборот неопубликованных, не переведенных в России пьес А. Наим и их анализе как формы адаптации чеховских произведений в иноэтничной и инокультурной среде. Пьеса «Если бы…» написана по мотивам рассказа Чехова «Горе». Название содержит мысль о невозможности вернуть загубленную жизнь. Хамади, как и герой чеховского рассказа, «маленький человек». Но чеховский герой переосмысляет жизнь и свое положение в ней, а Хамади становится жертвой социальных обстоятельств. Пьеса «Путешественник с фантазией» опирается на основные мотивы и персонажей повести «Палата № 6». Действие происходит в психиатрической больнице, сотрудники которой издеваются над больными. Молодой врач, пришедший в больницу, пытается исправить положение, но гибнет от рук больных, которых натравили на него другие сотрудники. Чеховские мотивы безысходности, безответственности, приводящей к умножению зла, доведены в пьесе до крайности. Рассказ Чехова «Смерть чиновника» послужил основой пьесы «Горячий день». Как и в предыдущих случаях, драматург переносит события в современный Ирак, придает им острый социально-политический смысл. Герой рассказа - фотограф, который нечаянно чихнул в лицо начальнику. Но, в отличие от чеховского генерала, тот провоцирует гибель фотографа. В пьесе «Мечта Масуда» легко угадывается рассказ «Хамелеон». Но укушен герой не маленькой собачкой, а собакой британского консула. Это определяет поведение полицейского, обвинившего Масуда. А. Наим также вводит в пьесу любовную линию, которой нет у Чехова. В заключение автор статьи приходит к следующим выводам: в восприятии произведений Чехова А. Наим на первый план выходят исторический и социально-политический аспекты. Сглаживание событийности сменилось в ее пьесах акцентуацией события, открытые финалы - трагическими, индивидуальное - типическим, порой доведенным до схематизма. Творчество Чехова становится фактом арабской культуры, оно творчески переосмысляется под влиянием специфики общественного и литературного развития другого народа, особенностей его социальной практики.
Бесплатно
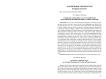
Тезки в исландских сагах: об одном из механизмов формирования саговых образов
Статья научная
В этой статье, на основании ряда примеров из исландских королевских саг, автор выясняет, какими путями могли формироваться образы саговых действующих лиц - тех, с кем главные герои пересекались и контактировали в других странах: русских князей, польских и шведских королей, нормандских и саксонских герцогов. Наряду с широко известными правителями, такими, скажем, как Ярослав Мудрый и Олав Шётконунг, в сагах фигурируют персонажи, чьи образы являются собирательными и соединяют в себе черты разных, связанных и несвязанных между собой, исторических лиц. Подобная трансформация образов происходила в сагах не только в процессе долгой устной передачи, но и при единовременном создании письменного текста. Недостаточность информации в источнике и стремление обозначить - в соответствии с саговой традицией - имена и патронимы своих персонажей, добавить характеризующие их детали нередко приводили к тому, что авторы саг «наделяли» своих героев несуществующим родством. Зачастую в заблуждение авторов саг вводило сходство имен исторических личностей. Из двух носителей одного и того же имени (деда и внука, отца и сына, просто тезок) авторы саг, как правило, останавливали свой выбор на более позднем, на том, кто был ближе к ним по времени и мог к моменту сложения/записи саги быть еще на слуху. Они ошибочно переосмысляли дошедшую до них информацию на основании более близкого им хронологически знания, как бы «спрессовывая» историческое время в рамках своего ретроспективного повествования.
Бесплатно

Травелог в творчестве И. Во ("Девяносто два дня")
Статья научная
В статье рассматривается малоизученная сторона творческого наследия английского писателя-сатирика XX в. Ивлина Во, проведшего много времени в путешествиях, - травелоги (на примере произведения «Девяносто два дня», посвященного путешествию англичанина в Британскую Гвиану, одну из самых отдаленных точек на карте Британской империи, сегодня страну в Южной Америке, обретшую независимость в 1966 г.). Жанр путешествия традиционно весьма популярен в английской литературе. И. Во, всегда оставаясь писателем, по самым разным причинам испытывал необходимость фиксировать на бумаге свои путевые впечатления. Часто материал в дальнейшем использовался им для написания художественных текстов. Среди отличительных черт творческой манеры англичанина можно выделить следующие: ироничная интонация, подробнейшая фиксация происходящего вокруг, многочисленные описания, внимание к людям, а не к достопримечательностям, интерес к истории, стремление передать атмосферу места. В статье анализируется структура книги, содержательный аспект ее глав. Одной из важных тем становится тема писательства. Лейтмотив путешествия - постоянные сборы. Другой повторяющийся мотив - несовпадение ожидания и реальности. Немало строчек в книге И. Во, прославившемуся психологизмом своей прозы, посвящено анализу человеческой природы. Книга «Девяносто два дня» - пример раннего творчества И. Во в жанре травелога - сочетает в себе как ключевые черты этого жанра, так и индивидуальные черты творческой манеры писателя, который выступает в этой книге представителем огромной Британской империи, доживавшей последние десятилетия своего существования.
Бесплатно
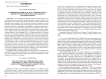
Традиции комедии Дель Арте, Теофиля Готье и Виктора Гюго в романе Гюстава Флобера "Госпожа Бовари"
Статья научная
Статья посвящена выявлению влияния традиций комедии дель арте (комедии масок, итальянской народной комедии), творчества Теофиля Готье и Виктора Гюго на особенности системы персонажей и сюжет романа Гюстава Флобера «Госпожа Бовари» (1856). В качестве доказательства влияния эстетики комедии дель арте на Флобера выступают фрагменты из писем писателя к возлюбленной, Луизе Коле, а также факты его биографии - драматургический опыт и, в частности, совместная с Луи Буйле работа над пьесой «Пьеро в серале» (1847). Анализ образов главных героев через призму эстетики комедии дель арте проводится с опорой на ставшие классическими в зарубежном литературоведении монографии Мориса Санда и Винифред Смит - «История арлекинады» и «Комедия дель арте: исследование итальянской народной комедии». Автор статьи раскрывает происхождение образов Шарля, Эммы, Оме, Лере, Леона и Родольфа и сопоставляет собственные выводы с гипотезами генезиса персонажей, выдвинутыми Розмари Ллойд и Франциско Гонсалесом. Кроме того, в статье вводится понятие «арлекинадного гротеска» и определяется функция фарсового начала в романе «Госпожа Бовари». Также в работе анализируются присутствующие в тексте романа аллюзии на новеллу Т. Готье «Эта и та, или Молодые французы, обуреваемые страстями» (1833) и роман В. Гюго «Собор Парижской Богоматери» (1831). Выявленные сюжетные параллели позволяют говорить о традиции «арлекинадного гротеска» во французской романтической литературе и роли творчества Готье и Гюго в формировании авторского почерка Гюстава Флобера.
Бесплатно
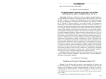
Традиционные и новые подходы к изучению германского эпоса о нибелунгах. Часть 1
Статья научная
Сказание о нибелунгах получило широкое распространение в культуре европейских народов и неоднократно привлекало внимание отечественных (В.Г. Адмони, А.Я. Гуревич, В.М. Жирмунский, М.И. Стеблин-Каменский, Б.И. Ярхо) и зарубежных исследователей (М. Куршманн, Я.Д. Мюллер, Г. Хайнцле, А. Хойслер, У. Шульце). Вместе с тем следует отметить, что большинство современных исследований ограничивается изучением отдельных аспектов, и за последние десятилетия были предложены новые трактовки проблем германского эпоса, которые требуют обобщения и осмысления. Поставив своей задачей представить обзор основных достижений исследователей в деле изучения нибелунгова сказания, автор посвящает первую часть своей статьи обзору его генезиса и его южной (германской) версии. Она представлена в героическом эпосе «Песнь о нибелунгах» (Nibelungenlied) (ок. 1200 г. н.э.) и почти не изученном в отечественных научных кругах «Плаче» (Klage). Народные версии сказания нашли свое отражение в «Народной книге о роговом Зигфриде» и «Песни о роговом Зейфриде», значительно отличающихся от версии, изложенной в «Песни». Проблемы, связанные с сохранившимися рукописями и соотношением новых и архаичных явлений, нашедших отражение в «Песни о нибелунгах», а также вопрос об устности/ письменности ее текста, получили широкое освещение в зарубежной литературе, в то время как вопросы языка исследовались в первую очередь отечественными учеными. Остается ряд областей, которые требуют дополнительных исследований: история создания и записи «Песни о нибелунгах», возможная устная форма передачи нибелунгова сказания в Средние века, а также бытование сказания в XVI-XVII вв. вплоть до обнаружения рукописей в середине XVIII в.
Бесплатно
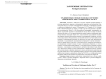
Традиционные и новые подходы к изучению германского эпоса о нибелунгах. Часть 2
Статья научная
Сказание о нибелунгах получило широкое распространение в культуре европейских народов и неоднократно привлекало исследователей. Значительный вклад в изучение скандинавской литературы, сохранившей сказание о нибелунгах (нифлунгах), внесли Р. Вишневски, А.Я. Гуревич, Ю.А. Клейнер, М.И. Стеблин-Каменский, Д. Харрис, Г. Хэфс и другие отечественные и зарубежные исследователи. Вместе с тем большинство монографий, посвященных вопросам эддической традиции и скандинавских баллад были созданы несколько десятилетий назад, и за это время накопились новые открытия, требующие пересмотра базовых концепций. Кроме того, лишь немногие исследования посвящены вопросам именно нибелунгова сказания в скандинавской литературе, поэтому статья представляет обзор основных достижений именно в изучении нибелунгова сказания в скандинавской традиции, не претендуя на охват всей проблематики, связанной со скандинавской средневековой литературой. В центре внимания -песни «Старшей Эдды» и две саги: «Сага о Вельсунгах», наиболее последовательно отражающая историю Сигурда и Гудрун и возникшая в Норвегии, и «Сага о Тидреке», носящая переходный характер - в ней переплетаются северная и южная традиции - и возникшая, по всей видимости, на берегах Балтийского моря. Кроме того, предлагается обзор изучения скандинавских и фарерских баллад, носящих черты дециклизации и распада героического эпоса, выстроенного вокруг фигуры Сигурда. Вторая часть статьи посвящена вопросу научной и культурной рецепции нибелунгова сказания в европейском обществе XIX-XX вв., которая продолжает бытование нибелунгова сказания на современном этапе развития общества.
Бесплатно

Трансформация христианских мотивов поэзии Теда Хьюза (на примере образа библейского Адама)
Статья научная
В статье анализируются различные проявления библейского образа Адама в творчестве английского поэта Теда Хьюза (1930-1998 гг.). На основании обзора источников, посвященных противоречивому отношению Хьюза к христианской религии, выносится предположение о постепенном хронологическом переходе Хьюза от ранней критики протестантизма и Реформации к зрелому признанию христианских символов как основополагающих для духовного развития человечества. Трансформация духовного мировоззрения поэта в статье анализируется на примере библейского образа прародителя человечества, Адама, который не раз возникает в качестве главного или второстепенного персонажа в поэтических циклах Хьюза 1970-х гг. В ходе анализа стихотворений прослеживается эволюция образа Адама от объекта иронии и черного юмора (в сборнике «Ворон», «Crow: From the Life and Songs of the Crow», 1970, к общечеловеческой метафоре о духовном возрождении, «Adam and the sacred nine», 1979) и символу преодоления дихотомии души и тела («Наблюдение за волками», «Wolfwatching», 1989). Отдельно обозначается место Адама в авторском мифологическом нарративе, присутствующем в большинстве художественных и критических работ поэта. Особенное внимание уделяется анализу поэтического сборника «Адам и священная девятка», в котором обездвиженность главного персонажа и онейрическое пространство, в котором он пребывает, возможно сопоставить и с экзистенциальным чувством заброшенности, и с состоянием расщепленности человеческого сознания в современном мире. Пафос поэтического сборника трактуется как призыв освободиться от «эго» материального мира и фантомов «ложной мифологии». На примере нескольких стихотворений показано, как лейтмотивы авторского мифа, проявляясь в рамках отдельных эпизодов, встраиваются в общую нарративную структуру Т. Хьюза, с ее движением «от мира крови к миру света» (К. Сейгар).
Бесплатно

Тремендизм как семиотическое окно. Власть цензуры и сила (не)соответствий
Статья научная
В статье анализируются особенности сюжетостроения тремендистского романа: их связь с тем значением, какое приписывается тремендизму в истории испанской литературы. Отмечено, что основную часть романа составляет ретроспективный рассказ героя о виденном или совершенном им преступлении. В финале романа от третьего лица сообщается, что фоном и / или предпосылкой преступления был социальный катаклизм, гражданская война (о которых протагонист не упоминал). Две версии называют один итог, но разные причины. Этим обусловлено специфическое соотношение онтологического и исторического планов в романе, двойная мотивировка действий героя, присутствие в повествовании элементов «фантастического» (логика трансгрессии, двойная оптика в изображении места и времени действия). Но также - эффект «обманутого ожидания», в основе которого - синтаксическая метафора. В рассматриваемых романах разные сюжеты и герои, но сходная и узнаваемая «синтаксическая» конструкция (один из элементов неизменен, второй - совмещается с новыми референциальными и выразительными средствами). Это роднит их с эзоповыми иносказаниями и иными семантическими комбинациями, отличительные черты которых - способность привлекать внимание, творческий- потенциал означивания. Особенность сюжетостроения сделала тремендистские романы объектом вторичной фольклоризации и постоянных переложений: «семиотическим окном», инструментом вербализации новых смыслов, обнаружения культурных и литературных связей в эпоху цензурных ограничений.
Бесплатно

Умолчание и вытеснение в романе Кейт Бернхаймер «Полное собрание сказок Люси Гольд»
Статья научная
В статье анализируется прием умолчания как результат защитного механизма вытеснения, становящийся особенностью нарратива заключительного романа трилогии о сестрах Гольд «Полное собрание сказок Люси Гольд» Кейт Бернхаймер, современной американской писательницы, активно исследующей и развивающей жанр сказки в своем творчестве. Романы Кейт Бернхаймер, с одной стороны, имеют много общего с личными дневниками, в которых женщины рефлексируют о детстве, проведенном в одном доме, наполненном как радостными, так и травмирующими воспоминаниями, а также о взрослых годах и карьере, с другой - представляют собой сказочные сборники, которые каждая сестра формирует сама, подбирая сказки и иллюстрации. В начале каждой книги присутствует список немецких, русских, еврейских и, в романе «Полное собрание сказок Люси Гольд» - китайской, сказок, тексты которых активно трансформируются, реконтекстуализируются в текстах романов трилогии. Сестры объединены общими травмами, по задумке Кейт Бернхаймер, они страдают от невозможности рассказать о случившемся с ними, что, однако, так или иначе проявляется в их повествовании. В то время как Мерри и Кетция, старшие сестры Гольд, частично вербализируют травматический опыт, младшая из сестер, Люси Гольд, активно вытесняет из памяти травмирующие эпизоды прошлого, связанные с табуироваными темами, такими как секс и жестокость, заменяя их ложными воспоминаниями, что подчеркивается Кейт Бернхаймер через использование приема умолчания, выражающегося в пропусках, загадках и графических особенностях текста, иллюстрациях.
Бесплатно
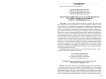
Филологический дискурс в сказочной повести А.С. Байeтт "Джинн в бутылке из стeкла “Соловьиный глаз”"
Статья научная
Статья посвящeна филологическому дискурсу как определяющему свойству поэтики произведения А.С. Байетт «Джинн в бутылкe из стeкла “соловьиный глаз”», изменяющему его жанровую характеристику. Интердискурсивность рассматривается как взаимодействие нехудожественного (филологического) и художественного дискурсов. Нехудожественный дискурс, попадая в художественное пространство, эстетизируется, приобретая черты художественной образности, тогда как художественный модус получает свойства ноуменальности, интеллектуализируясь. Разнообразие филологического дискурса поддерживается взаимодействием вставных историй и аллюзий, способствуя аккумуляции смысла и структурации текста. В произведении А.С. Байетт «Джинн в бутылке из стекла “соловьиный глаз”» определяющими интертекстами стали «Кентерберийские рассказы» Дж. Чосера и арабские фольклорные истории «1001 ночь». Стимулированная ими поэтика «рассказанных историй» в сочетании с охватывающим их филологическим дискурсом создает «ансамбли дискурсивных событий» (В.И. Тюпа), которые, «поддерживая» специфику персонажной системы, определяют многосмысленность произведения и формируют условия для художественной вариативности его восприятия читателем.
Бесплатно

Функции детализации в авторской сказке Г. Шибельхута «Кружево»
Статья научная
Настоящая статья посвящается изучению функционального потенциала детализации в художественном тексте. В фокусе внимания находятся три основные функции: способность детализации обеспечивать равновесное соотношение «чудесного» и «правдоподобного», вклад детализации в создание эстетически значимой картины сказочного бытописания и придание повествованию сюжетного развития, компенсация отсутствия сюжетного конфликта. Устанавливается, что различные подвиды детализации поддерживают в равной степени оба члена оппозиции, как художественный вымысел, так и правдоподобие. Второстепенные штрихи не только выстраивают гармоничное соотношение между противочленами бинарной оппозиции, но и придают обыденному, бытийному, тому, что нечасто привлекает внимание, особую ценность. Подчеркивается также, что прилагательные и причастия в их метафорическом употреблении могут размывать границы между «чудесным» и «правдоподобным». В работе обосновывается значимость детальных описаний, особенно тех, которые проявляют фоностилистическое своеобразие, например, представляют собой аллитерацию и ассонанс, в реализации одной из главных функций языка в художественном произведении – эстетической функции. Анализируемая сказка отличается от канонической и модифицированной волшебной сказки отсутствием локальных и преходящих конфликтов. Однако введенные в повествование детализованные пространственные и временные маркеры, релевантные для жизненных циклов флоры и фауны, сообщают художественному тексту известный динамизм и развитие сюжета.
Бесплатно

