Зарубежные литературы. Рубрика в журнале - Новый филологический вестник

Диалог двух претекстов в романе Дж. Барта «Последнее путешествие некоего морехода»
Статья научная
Статья рассматривает влияние новеллы Э.А. По «Тысяча вторая сказка Шехерезады» на роман американского писателя Джона Барта «Последнее путешествие Некоего Морехода» («The Last Voyage of Somebody the Sailor»), а также то, как взаимодействуют между собой этот претекст с другим, заявляющим о себе уже на уровне заголовка, а именно: сказками о Синдбаде мореходе из сборника «Книги тысячи и одной ночи». Эта проблема ранее специально не изучалось в российском литературоведении, но ее решение оказывается очень плодотворно для более глубокого понимания романа Барта. В целях решения обозначенной проблемы в статье последовательно устанавливаются сходства двух произведений на уровне мотивной, сюжетной, тематической и композиционной организации. Демонстрируется в частности то, как оба писателя строят сюжет вокруг рассказа об «истинной» истории смерти Шехерезады, пересказывают на новый лад истории о приключениях сказочного купца Синдбада морехода и подвергают переосмыслению традиционную схему выкупной истории. Притом и Э.А. По, и Дж. Барт используют восточную сказку в сопоставлении с современной им американской реальностью, исследуют с помощью историй о приключениях Синдбада природу фантастического и реального в литературе, проблему западного и восточного нарратива и особенности рецепции художественного их аудиторией. Статья показывает, как чтение романа Барта, осуществляемое через призму рассказа Э.А. По и восточного сборника сказок одновременно, помогает вскрыть его смысловые нюансы, особенно в свете важной для романа антиномии реального и вымышленного. Проблема достоверности, реализуемая схожим образом в произведениях двух американских авторов и вступающая в резонанс с восточным претекстом, позволяет лучше понять природу реалистического и фантастического в исследуемом романе.
Бесплатно
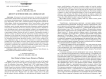
Дискурс безумия в новеллах Элены Косано
Статья научная
Актуальность статьи обусловлена тем, что творчество испанской писательницы Элены Косано еще никогда не было объектом исследования в отечественном литературоведении. Материалом для анализа послужил сборник новелл «Колдовские души» (2013), ставший лауреатом литературным премии им. Рубена Дарио. Автор статьи рассматривает тексты Элены Косано с точки зрения дискурсного анализа. Современные школы дискурс-анализа подтверждают, что структура текстов сегодня представлена рядом дискурсов, которые взаимодействуют между собой. Изучив систему дискурсов, представленных в сборнике новелл «Колдовские души», автор статьи приходит к выводу, что доминирующим из них является дискурс безумия, который красной нитью проходит через все тексты и представляет концепт безумия во всех его аспектах: болезненное влечение к другому человеку как безумие; безумие творчества; безумие одиночки, не принимающего устоев общества; безумие как одержимость некой идеей; безумие как результат проникновения в потусторонний мир. Автор приходит к заключению, что испанская писательница органично сочетает в своих текстах концепты безумия, характерные сразу для двух этносов: немецкого и испанского. Немецкая метафора безумия как форма духовного знания, противостоящего рациональной бездуховности, переплетается с испанским концептом безумия как божьего благословения. Соединение двух концептов понимания безумия, вкупе с учениями К. Юнга и З. Фрейда о природе бессознательного, дают уникальный сплав, который определяет авторский стиль испанской писательницы.
Бесплатно
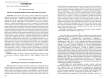
Дискурс правды: новая журналистика и роман
Статья научная
Задача этой статьи состоит в анализе любопытного случая взаимодействия фактуальной литературы (nonfiction) с фикциональной (fiction). Отправная точка анализа - знаменитое предисловие-манифест американского литератора Тома Вулфа к антологии «Новая журналистика» (1973), в котором он превозносит реализм, обнаруживая в нем способность уникальным - физиологическим - образом воздействовать на читателя, и утверждает, что Новая журналистика вернула реализм в американскую словесность, воспроизведя тем самым важный эпизод истории литературы: рождение реалистического романа в Англии XVIII в. Приведенные утверждения до сих пор не привлекали того критического внимания, которого явно заслуживают. Как показали исследователи (М. Дикстин, Д. Хартсок, Б. Шапиро), роман этот возник из подражания предшествовавшей ему фактуальной литературе и был призван воздействовать на читателя своей заемной «правдивостью». В этой «правдивости» узнается парадоксальная идея неотъемлемой от романа «правды вымысла», занимавшая литературоведа М. Риффатера и философа Г. Кёрри (среди прочих). Делается возможным предположить, что английская «литература факта» конца XVII в. дала образцы правдивого и достоверного повествования, а реалистический роман сформировал «поэтику правды», обеспечивающую читателю коммуникативно-эстетический опыт переживания «реальности» повествования. Исследования в области эволюционной биологии, нейрофизиологии и когнитивистики подтверждают это предположение - и, соответственно, правоту первого утверждения Тома Вулфа. Второе его утверждение верно наполовину: в 1960-х гг. не реализм вернулся в американскую литературу, а из напряжения между fiction и nonfiction вновь возникла литературная форма. Новая журналистика подражала роману, как в XVIII в. роман подражал «литературе факта».
Бесплатно
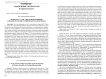
Ж. Верн и Г. Уэллс: две модели развития западного научно-технического романтизма
Статья научная
Цель исследования состоит в осмыслении творчества Ж. Верна и Г. Уэллса как этапа развития феномена научно-технического романтизма, представленных ими особенностей соотношения общего и художественного мировоззрений, их роли в разработке духовно-идеологических основ социума и государства в новой культурно-политической обстановке, создания моделей возможного общественного устройства и презентации поведенческих образцов отношения с окружающим миром. Творчество Ж. Верна и Г. Уэллса исследуется посредством методологии, разработанной автором статьи в более ранних исследованиях, и рассматривается с точки зрения трех уровней идеального конструирования: политического, этического и антропологического идеала. Таким образом выявляются модели идеального общества, идеального человека и этическая система, разработанная двумя названными писателями. Высказывается тезис об общей принадлежности Ж. Верна и Г. Уэллса к феномену научно-технического романтизма, представляющего синтез антропологического оптимизма, социального сциентизма и гуманистического технократизма, при их различии в мере сциентического оптимизма/пессимизма и некой разнице темпераментности, типе деятельностного присутствия в мире. Автор выдвигает гипотезу, что в произведениях Ж. Верна авантюрно-приключенческое начало является инструментальным, будучи художественным языком представления не миров приключений, а моделей социумов, этических и социально-политических идеалов, альтернативных существующему миру.
Бесплатно
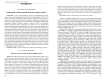
Жанровый аспект военной прозы Амброза Бирса
Статья научная
В статье рассматривается творчество американского писателя, журналиста и ветерана Гражданской войны США Амброза Бирса (1842-1914?), одного из наиболее самобытных представителей литературы США второй половины XIX в. Целью работы является выявление жанрового своеобразия военной прозы писателя. Исследование осуществляется на материале произведений, вошедших в сборник «Рассказы о военных и штатских» (1891 г.). В творчестве писателя выявляются черты, характерные для жанра short story. Затрагивается проблема разграничения жанров малой прозы, таких как новелла, рассказ, short story и др. Анализируется притчевое начало в творчестве писателя. Подробно рассматривается наличие в рассказах писателя двух смысловых планов, соприкосновение которых происходит на уровне системы персонажей. Устанавливается, что герои военных историй писателя представляют либо первичный, либо иносказательный план произведения. Основой мировоззренческих позиций персонажей признаются идеи Артура Шопенгауэра (для представителей первичного плана), а также идеи философии стоицизма (для аллегорических героев). Делается вывод о принадлежности произведений Бирса к жанру short story, при этом притча является конструктивным ядром коротких рассказов писателя. Актуальность работы обусловлена необходимостью исследования жанра как отдельного аспекта военной прозы писателя. Научная новизна исследования заключается в выявлении притчевого начала в произведениях Бирса о Гражданской войне как важной составляющей творчества писателя.
Бесплатно

Живой и мертвый Гёте в романе М. Кундеры «Бессмертие»: структура и функции образа
Статья научная
Статья ставит целью прояснить структуру и функции образа И.В. Гёте в романе М. Кундеры «Бессмертие» (1990) и рассмотреть, как они определяют мотивно сюжетное устройство романа. Утверждается, что Гёте представлен в романе в четырех «измерениях». Во первых, как поэт, в частности, автор стихотворения «Über allen Gipfeln…», которое не просто цитируется, но и подвергается в «Бессмертии» стиховедческому анализу. Во вторых, как автор романа «Страдания юного Вертера», по Кундере, воплотившего «европейское понятие любви» и идеально выразившего тип homo sentimentalis, принципиальный для европейской культуры. Гёте оказывается в романе одним из главных создателей европейского духа и самой Европы как таковой, размышления о которых составляют важный смысловой пласт произведения Кундеры. В третьих, поскольку «Бессмертие» характеризуется наличием нескольких повествовательных планов и уровней, Гёте изображен как один из персонажей, а его отношения с Беттиной Брентано формируют одну из сюжетных линий, которая во многом «параллельна» сюжетным линиям условного настоящего в романе. В-четвертых, один из повествовательных уровней романа представлен «загробным» планом, в котором Гёте ведет с Э. Хемингуэем разговоры в традиции «диалогов мертвых». Фигура Гёте является своеобразным «замкóвым камнем» романа, объединяет все его уровни, и через нее и параллели с ней решаются основные проблемы этого произведения Кундеры: индивидуальность / лицо и неизбежная «типичность», Бог и его отсутствие, соглядатайство и «вечный суд», гипертрофия «я» и homo sentimentalis, европейская цивилизация и эротическая двусмысленность, циферблат жизни и умение «быть мертвым» - и другие, включая заглавную.
Бесплатно
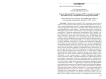
Статья научная
«Признания Ната Тернера» (1831), записанные Томасом Греем в тюрьме со слов предводителя виргинского восстания рабов накануне его казни, -один из самых интригующих текстов в истории американской словесности. Он отличается жанровым синкретизмом: в нем присутствуют признаки разных видов (авто)биографических повествований - признаний преступников, духовной автобиографии, невольничьего повествования, а также проповеди и сенсационной журналистики. Совместное произведение повествователя (Ната Тернера) и его стенографа и редактора (Т. Грея) порождает серьезные и труднорешаемые проблемы, связанные с авторством и аутентичностью текста. В «Признаниях Ната Тернера» стратегии рассказчика и его «стенографа» Томаса Грея подчеркнуто различны; создается амбивалентный портрет Ната Тернера, который предстает то как мрачный фанатик и кровожадный убийца, то как пророк-духовидец и борец за свободу. Жанровое, тематическое и стилистическое своеобразие «Признаний Ната Тернера» во многом объясняет значимость этого текста для американской литературной традиции. В романе Г. Бичер-Стоу «Дред, история о Великом мрачном болоте» (1856) Тернер стал прототипом бунтаря Дреда. Легенду о Нате Тернере исследовал выпускник Гарварда, унитарианский пастор, аболиционист Томас Уэнтворт Хиггинсон (1823-1911), пытавшийся восстановить исторические факты и нарисовать портрет черного бунтаря. В ХХ в. в числе прочих к образу Тернера обратился Роберт Хейден, сложивший «Балладу о Нате Тернере» (1962). Присутствие двух резко отличных стилей и повествовательных манер в тексте «Признаний.» легло в основу романа У. Стайрона «Признания Ната Тернера» (1967), отмеченного в 1968 г. Пулицеровской премией. У Стайрона Нат предстает как персонаж с раздвоенной личностью, «чернокожий Гамлет», страдающий от невозможности совместить в одном человеке проповедника и полководца, мистика и политического лидера. Роман писателя-белого южанина, вышедший в разгар «черной революции» 1960-х гг., спровоцировал гневную реакцию афроамериканских радикалов-шестидесятников В защиту романа выступили крупные афроамериканские писатели Р. Эллисон, Дж. Болдуин, известный историк Ю. Дженовезе. Полемика вокруг романа Стайрона продолжалась и в постшестидесятнической афроамериканистике (У Эндрюс, Г.Л. Гейтс-мл.). Стайрон привлек внимание к исходному тексту, «Признаниям Ната Тернера», записанным Т. Греем в 1831 г., и спровоцировал взрыв интереса к полузабытому жанру невольничьих повествований. Книга Стайрона стала импульсом для исследовательского «бума» вокруг повествований рабов в афроамериканистике и для появления и расцвета в афроамериканской литературе рубежа XX-XXI вв. жанра «нео-невольничьих повествований».
Бесплатно
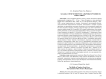
Загадка сорок четвертого: андроид в рукописях Марка Твена
Статья научная
Статья посвящена анализу одного из самых загадочных образов американской литературы XIX - XX вв. - Сорок Четвертого из двух рукописей Марка Твена (“Schoolhouse Hill”, 1898; “No. 44. The Mysterious Stranger”, 19021908) с целью определения его генезиса. Актуальность исследования обусловлена фактической нерешенностью вопросов, относящихся к истории создания персонажа: на протяжении последних пятидесяти лет исследователи творчества М. Твена пытались выяснить, почему в качестве имени для своего протагониста писатель выбрал номер (№ 44 серия 864, 962) и какой была функция этого номера. Особое внимание уделяется роли окружения Марка Твена в создании истории о Сорок Четвертом: его дружбе с Н. Теслой, Я. Щепаником и Т. Лещитицким. Автор статьи поддерживает гипотезу американского литературоведа Луиса Дж. Бадда о возможном влиянии Адама Мицкевича (поэмы «Дзяды») на М. Твена и выдвигает свою - о влиянии на писателя работ Николы Теслы, Огюста Вилье де Лиль-Адана (его романа «Новая Ева») и научных фантастов 1890-х, создававших приключенческие романы о Томасе Эдисоне («эдисониады»), андроидах, путешествиях во времени и инопланетянах. Марк Твен, так и не решившийся опубликовать свои рукописи о Сорок Четвертом по этическим соображениям, в свете новой гипотезы становится первопроходцем в научной фантастике, предложившим принципиально новый сюжет об инопланетянине - не враждебно настроенном, а желающим дружить с землянами и помогать им. Кроме того, Марк Твен - первый, кто написал именно об андроиде с другой планеты. Новизна исследования видится в том, что впервые предлагается комплексный подход к решению «загадки Сорок Четвертого» с опорой как на факты биографии писателя, так и на широкий историко-культурный контекст его эпохи.
Бесплатно
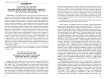
Знаковые коды художественной условности в философской фантастике Колина Уилсона
Статья научная
В статье рассматривается цикл романов, отражающих самые значительные достижения автора в области философской фантастики и входящих в состав его книги итогов под названием «Мир пауков». Заявленная тема разрабатывается на основе системного подхода, что позволяет воссоздать жанровую полимодель отобранных произведений и согласовать исходные предпосылки и целевые установки исследования с ее консолидированной эпической перспективой. В границах заданных эпистемологических координат предпринимается размежевание повествовательного текста и семиотического метатекста эпопеи по признакам относительной принадлежности каждого из них к первичным или вторичным парадигмам художественной условности. Дихотомическое выделение текстовых субструктур открывает доступ к межевому пространству их смысловых связей, где эстетические формы картины мира проявляют ис-ключительную зависимость от бытийного содержания излагаемой истории, а их знаковые коды выражают изменения идейных концептов запечатленных реалий по мере развертывания этой истории. Линейный анализ выявленных связей приводит к заключению о том, что расстановка и логика смысла знаковых кодов художественной условности в романах К. Уилсона определяется дискурсивной последовательностью идеографических символов мифа, феноменологических образов действительности и концепту-альных образов-идей, в которых вещи раскрываются в их ценностных значениях для человека.
Бесплатно
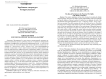
Идея спасения в поэме П.Б. Шелли “Маскарад анархии”
Статья научная
Предпринятый в статье анализ художественной структуры направлен на выявление скрытых глубинных смыслов, что приводит к обнаружению важнейших специфических особенностей мировоззрения поэта - в этом состоит новизна подхода. В сюжетной организации поэмы выявляются центральные оппозиции сон - пробуждение, свобода - рабство, свет - мрак и рассматриваются способы их реализации в тексте. Дается анализ семантики художественных образов на символическом, мифопоэтическом и библейском уровнях. Устанавливается, что благодаря наличию двух групп аллегорических фигур создается в целом амбивалентный образ Англии, где под прикрытием сурового закона скрывается подлинная анархия, разлагающая общество изнутри, провоцирующая политическое противостояние, несущая нравственный хаос и ведущая страну к гибели. Согласно выводам, главной в произведении является идея спасения, которая воплощается в образе Свободы, путь к ней пролегает через Мир (как противоположность войне и любому насилию) и возможен только с помощью Надежды, Любви и Мудрости, т.е. тех же самых ценностных ориентиров, что и в христианской философии. Особую роль выполняет в сюжете Лик - уникальный природномистический образ, противодействующий злу. С другой стороны, Смута-Анархия, синонимичная Хаосу, противоположна Свободе, без которой невозможны ни Красота, ни Гармония - а именно они, по мысли Шелли, должны царствовать и в природе, и в обществе, и в душе каждого человека.
Бесплатно
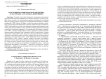
Из истории итальянского протодетектива: Ф. Мастриани, Э. де Марки, К. Инверницио
Статья научная
В данной статье автор продолжает исследование итальянского протодетектива. Ранее автор обращалась к истокам итальянского «джалло» (итал. giallo, букв. «желтый»; так в итальянской традиции обозначается детективный жанр) на примере романов «Мой труп» (1852) Франческо Мастриани и «Шляпа священника» (1888) Эмилио Де Марки, а также исследовала некоторые особенности поэтики Каролины Инверницио на примере романа «Поцелуй покойницы» (1886). В настоящей статье в ряду уже упомянутых произведений появляются два новых, ранее не рассмотренных текста, каждый из которых показателен в истории становления детективного нарратива. Это поздний роман Мастриани «Кровавый тост» (1891), в котором обнаруживаются новые в сравнении с ранними произведениями автора детективные ходы: сохраняется тайна «кто преступник», которая предполагает соревнование между читателем и расследующей кражу и убийство полицией, а также присутствуют подсказки, которые помогают читателю решить криминальную загадку. Второй текст - роман Инверницио «Нина, полицейская-любительница» (1909), главную героиню которого некоторые исследователи предлагают считать первой в ряду женщин-детективов «по воле случая» (Л. Крови). Нина расследует убийство своего жениха, она действует по личным мотивам, а не по долгу службы или по призванию. В завершении статьи - в качестве направления дальнейшего исследования - упоминается «конкурентка» героинь Инверницио - профессиональная женщина-детектив Анна Стивенсон, персонаж серии рассказов Франко Белло.
Бесплатно
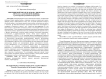
Статья научная
Роман Джонатана Литтелла «Благоволительницы», посвященный событиям Второй мировой войны, затрагивает вопросы исторической памяти, проблему вины и необходимости. В силу того, что роман предлагает взглянуть на события войны с точки зрения военного преступника, он выстроен как диалог с читателем. В «Благоволительницах» представлен новый тип повествования в литературе о Холокосте, и вместе с тем - новый тип героя-нарратора. В то же время вопрос о рецептивном потенциале романа в настоящий момент остается малоизученным. Статья посвящена выявлению рецептивной программы романа «Благоволительницы» Джонатана Литтелла. Коммуникативную стратегию текста и фигуру имплицитного читателя романа помогают воссоздать рецептивноэстетический и нарратологический методы. Автор статьи опирается на исследования Х.-Р. Яусса и У. Эко, описывая процесс трансформации горизонта ожидания имплицитного читателя: это изменение находится в прямой зависимости от используемых рассказчиком коммуникативных приемов. Исследование проводится на материале первой главы романа в связи с тем, что именно в ней эксплицированы стратегия текста и составляющие ее повествовательные приемы, используемые автором для моделирования фигуры имплицитного читателя. В ходе предпринятого в статье анализа выявлены такие повествовательные «тактики», как снискание читательского расположения и принуждение реципиента к со-ответственности. Подчиняясь нарративной стратегии романа, читатель переживает своего рода инициацию, переходя от осуждения главного героя - бывшего офицера СС - к признанию себя потенциальным преступником через тождество с рассказчиком. Эта метаморфоза определяет ракурс чтения последующих глав романа, события которых изложены с точки зрения «палача», принимающего участие в истреблении еврейского народа.
Бесплатно
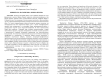
Инвентарь «патаписьма» Жоржа Перека
Статья научная
В центре настоящей работы стоит проблема влияния на стиль французского писателя Жоржа Перека творчества писателей-патафизиков. Для автора большое значение имело художественное наследие Альфреда Жарри и Рэймона Русселя. По отношению к текстам данных писателей, а также некоторых других, в произведениях Перека можно установить генетические и типологические связи. Эти точки соприкосновения писателей являются важным элементом для интерпретации как всего творчества Перека, так и в целом «патафизического письма» (или «патаписьма»), т.е. некоторых общих закономерностей работы с литературным текстом среди писателей-патафизиков. В своих произведениях Перек часто прибегал к языковой игре, создавал несуществующие и порой невозможные предметы, передавал невыразимые состояния на грани серьезного и иронического, устраивал осознанные ограничения для самостоятельного высказывания. Эти элементы во многом являются частью поэтического инвентаря патафизиков, их «патаписьма». В творчестве Перека читатель встречается с обширным поэтическим набором, имеющим литературно-патафизическое происхождение. В его текстах возникают антиномии, аномалии, сигизия, клинамен, абсолют, особый патафизический юмор, патафизические время и пространство, а также патафора. Помимо типологических сходств в общих приемах и настроении многие тексты Перека буквально отсылают к творчеству Русселя и Жарри, при этом Перек устраивает не только референции к своим учителям, но и использует и переосмысляет некоторые их повествовательные стратегии, обогащая свой творческий метод.
Бесплатно

Статья научная
В статье освещены методические подходы, которые использовались при интеграции в цифровую среду книг, выпущенных первым советским специализированным издательством переводной художественной литературы «Всемирная литература», открытым по инициативе А.М. Горького. В начале дается обзор существующих в настоящее время цифровых архивов: писательских, литературных организаций, литературных кружков, групп, обществ и объединений. Особое внимание уделяется созданию архива литературных издательств. На примере портала «Всемирной литературы», созданного учеными из ИМЛИ РАН, обозначена продуктивность междисциплинарного подхода, посредством которого становится возможным комплексно подойти к проблеме перестройки литературного процесса в переходные эпохи, вроде военного коммунизма и раннего НЭПа, когда функционировало горьковское издательство. Выпуск художественной литературы в этот период всецело зависел от политической воли и людей на местах, старавшихся действовать в собственных интересах, как это делал И.И. Ионов, глава Петрогосиздата. В статье обозначены три методических предпосылки: составление списка изданий на основе разных источников и баз данных, оценка сохранности экземпляра, библиографическое описание книги как результат научных изысканий ученого. Каждая из них раскрывается посредством разбора нюансов, связанных с историей создания и функционирования горьковского издательства в условиях разрушения полиграфической базы страны и монополизации книжного рынка со стороны нового государства.
Бесплатно

Интермедиальный персонаж в рассказе Г. Гессе «Соната»
Статья научная
Статья посвящена анализу рассказа Германа Гессе «Соната» (1907) с точки зрения активно развивающейся в последние десятилетия теории интермедиальности. С опорой на типологию форм интермедиальности, предложенную немецко австрийским теоретиком В. Вольфом, вводится уточненное определение понятия «интермедиальный персонаж», а также описывается последовательная схема его выявления в художественном тексте. Детальное рассмотрение внутреннего мира произведения, сюжета, системы персонажей, системы точек зрения и композиционно речевых форм позволяет обнаружить интермедиальные компоненты (музыкальное заглавие, восприятие и/или обсуждение персонажами музыки, фигура музыканта) и говорить о медиагибридной природе рассказа. При этом интермедиальный персонаж занимает особое место в структуре произведения, поскольку именно через него в механизм повествования проникает иной медиум - музыка. Его игра на фортепиано активизирует внутренний мир главной героини и становится катализатором экзистенциального прозрения. Таким образом, в статье обосновывается продуктивность использования экспериментального понятия при анализе литературного произведения, где художественное целое формируется на пересечении границ различных медиа, а выявленные в процессе исследования бинарные оппозиции (реальное / ирреальное, замкнутое / открытое, материальное / духовное, горизонтальное / вертикальное, линейное / нелинейное и др.) позволяют говорить о выстраивании неоромантической модели мира в конкретном художественном тексте.
Бесплатно
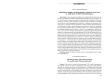
Интерпретация средневекового сюжета в поэме М. Арнольда "Тристрам и Изольда"
Статья научная
Статья посвящена особенностям восприятия М. Арнольдом известного средневекового романа. По форме произведение отличается сложностью, в поэму включаются элементы драмы, события предстают в обратной последовательности. В начале поэмы Тристрам на смертном одре вспоминает о событиях своей юности, герой одновременно сосуществует в прошлом и настоящем. Оригинальность в трактовке сюжета проявляется в образе нежной заботливой Изольды Бретонской, которую автор откровенно предпочитает гордой и надменной Изольде Ирландской. Обе Изольды любимы героем, но с Изольдой Ирландской его связывает разрушительная страсть, с женой - одухотворенное и нежное чувство, у них есть дети. Поэма не заканчивается смертью Тристрама и Изольды Ирландской, в заключительной части рассказывается об Изольде Бретонской, после смерти мужа полностью посвятившей свою жизнь детям. Смысл произведения проясняется при сопоставлении со стихотворениями Арнольда о двух периодах в жизни человека, названных автором “юностью” и “покоем”. Юности свойственны пылкие страсти, с возрастом наступает период покоя и воспоминаний о волнениях молодости. С этими периодами в жизни Тристрама связаны два контрастных женских образа. Но позиция автора двойственна. В “Тристраме и Изольде” поэт осуждает губительные бурные страсти, но и монотонная спокойная жизнь кажется ему подобной смерти. Изольда Бретонская в поэме отвечает викторианскому женскому идеалу, она в большей мере относится ко времени автора, тогда как Тристрам и Изольда Ирландская принадлежат прошлому, воплощая представление о кельтском характере, который позже станет предметом исследования Арнольда в работе “Изучение кельтской литературы”.
Бесплатно
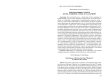
Интерференция стилей в поэме "Маникюр" Мариу де Са-Карнейру
Статья научная
Цель настоящей статьи - определение стилей и выявление их взаимодействия в тексте поэмы «Маникюр» португальского поэта начала ХХ в. Мариу де Са-Карнейру. Семантическая и композиционная сложность поэмы, а также отсутствие любых комментариев со стороны автора, затруднили интерпретацию произведения как современниками поэта, так и последующими критиками и исследователями, создав вокруг текста своеобразный культурный вакуум. Поэма долгое время оставалась вне поля зрения зарубежных исследований, а в России первое обращение к этому тексту было лишь в 2010 г. Специфика проблемы и материала предопределила концепцию статьи, которою можно охарактеризовать как «последовательное аналитическое прочтение» текста поэмы. Анализ поэтической ткани «Маникюра» подчинен логике развития самого произведения; в статье последовательно анализируются небольшие фрагменты поэмы; в заключении приводится обобщающая информация. Такая методика позволяет познакомить читателя с содержанием произведения и одновременно «вписать» поэму в современный ей эстетический контекст. Наблюдения над текстом позволяют прийти к выводу о том, что в проанализированном произведении четко выделяются черты двух «общеевропейских» стилей, культивируемых, главным образом, в живописи - аналитического и орфического кубизма, а также элементы футуризма. Своеобразным синтезом трактуется интерсекционизм - эстетический проект, предложенный португальскими модернистами. Анализ отдельных фрагментов текста поэмы позволяет рассматривать некоторые пассажи произведения с точки зрения зарождения будущих эстетических проектов, таких как хепенинг.
Бесплатно

Ирландская тема в романе Дафны дю Морье "Голодная гора"
Статья научная
Тема внутреннего «другого» в английской литературе ХХ в. является значимой составляющей национальной самоидентификации, о чем свидетельствует обращение к ней самых разнообразных авторов. Так, английская писательница Дафна Дю Морье (1907-1989) в своем творчестве не раз апеллирует к межэтническим отношениям внутри Великобритании. Целью данной статьи является анализ ее романа «Голодная гора» (Hungry Hill, 1943) с точки зрения представления в нем ирландской темы. В работе использовались метод постколониальных исследований, а также культурно-исторический и имагологический методы. Актуальность исследования обусловлена интересом к вопросу межэтнических взаимоотношений и национальной самоидентификации. Новизну работы определяет практически отсутствие в отечественном литературоведении анализа данного произведения Д. Дю Морье. В романе писательница обращается к жанровой традиции ирландского романа «Большого Дома» (Big House Novel), выстраивая сюжет вокруг семьи Бродриков, шотландских переселенцев, и их противостояния с ирландской семьей Донованов, которым изначально принадлежала земля. Показательным является то, что оппонентами ирландцев становятся именно шотландцы, которые здесь представлены как носители имперского сознания и как пример встраивания в концепцию британской идентичности. Образы ирландцев остаются в рамках стереотипов и клише. Они наделены такими чертами, как алчность, грубость, жестокость, необразованность. Кроме того, их алогичность и потакание страстям часто противопоставляется рассудительности и разумности Бродриков.
Бесплатно
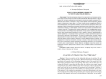
Искусство и жизнь в повести М. Месёя "Высокая школа"
Статья научная
В центре внимания автора статьи находится соотношение искусства и игры, жизни и смерти в повести Миклоша Месёя «Высокая школа». Об особенностях поэтики выдающегося венгерского писателя второй половины ХХ в. написано уже немало, и интерес к этому в наше время только возрастает. Данная повесть уникальна в своем роде, т.к. была создана после возвращения Месёя с соколиной фермы, на которой он побывал с целью написать репортаж. Вместо репортажа в повести встречаются указания на разные виды искусства, в связи с чем поднимается вопрос: в какой форме лучше всего представлять жизненный опыт и живых существ? Следовательно, можно утверждать, что метафоризация искусства выполняет текстообразующую функцию. В ходе нашего анализа рассматривается также тропеизация некоторых птиц и зверей в повести, примыкающая к данной проблеме и создающая новую семантику, которая противопоставляется логической структуре высказывания. В повести посредством позиций героев представляется «искусство как игра», однако конфликт с реальной жизнью, в которой все живое должно умереть, приводит к тупику рефлексивного сознания, что выражается в попытках построить легенды о соколах. Лишь при помощи языкового акта, поэтического слова становится возможным преодолеть это состояние и понять свое существование. Таким образом, метафоры искусства служат как выявлению личного присутствия в бытии, так и созданию нового поэтического дискурса.
Бесплатно
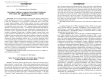
Испания, Синера и Сефарад в художественном пространстве сборника Салвадора Эсприу "Шкура быка"
Статья научная
В статье рассматривается поэтический сборник «Шкура быка» (1960) каталонского поэта XX в. Салвадора Эсприу (1913-1985), вобравший в себя темы, намеченные в его предыдущем стихотворном цикле из пяти книг. В своем первом сборнике стихов Эсприу знакомит читателя с вымышленной Синерой, прототипом которой стал средиземноморский каталонский городок, где появились на свет отец и мать поэта. Ставшая символом идеализированного прошлого и малой родины Синера - это обозримое ограниченное пространство, приметами которого являются море, горы, виноградники, оливковые рощи. Поэт, воспевший в книге «Кладбище Синеры» родной край, средиземноморскую Каталонию, в сборнике «Шкура быка» с любовью говорит о родной земле, имея в виду Испанию и Пиренейский полуостров, который в этой книге именуется Сефарадом (так полуостров много веков назад называли оказавшиеся там евреи, наряду с маврами и испанцами создавшие уникальную культуру средневековой Андалузии). Автор высказывает надежду на то, что молодое поколение сотрет с «истоптанной шкуры» кровавый след, оставленный гражданской войной, и построит будущее Сефарада на принципах уважения к истории, культуре и языкам разных народов, живших и живущих на этой территории. В анализируемом сборнике вымышленные, реальные или оставшиеся в историческом прошлом города и страны совмещены в едином художественном пространстве, и это подчеркивает идею поэта о ценности и равноправии культур Испании, Сефарада и других реальных и символических регионов мира.
Бесплатно

