Зарубежные литературы. Рубрика в журнале - Новый филологический вестник

К вопросу о переводе заглавий романов Т. Пратчетта на русский язык
Статья научная
Новизна данной статьи состоит в том, что она сосредотачивает внимание не на констатации переводческих «удач» и «просчетов» с последующим предложением собственных вариантов или стратегий перевода, как это принято в статьях переводоведческого характера. Авторы избирают более широкий филологический подход к проблеме, исследуя функции заглавия в художественном тексте вообще и в постмодернистской литературе с ее игровым характером в частности, а также выявляют и описывают последствия трансформаций смысла заглавий при переводе. Современной филологической наукой признано, что заглавие играет важнейшую роль для понимания авторского замысла и задает ту или иную антиципацию читателю, так как это первое, с чем он сталкивается, знакомясь с текстом. Материалом для исследования в статье выступают заглавия серии романов «Плоский мир» британского писателя Терри Пратчетта и их переводы на русский язык. Проведена классификация заглавий цикла по принципу степени их аллюзивности и сложности для перевода. Цикл о Плоском мире включает в себя 41 книгу, в котором больше половины заглавий носят цитатный характер и/или содержат в себе игру слов. Если «простые» заглавия, ненагруженные интертекстуальными смыслами, у переводчиков не вызвали трудностей, то при переводе аллюзивных или содержащих каламбуры заглавий ряд смысловых уровней в русских версиях исчез. В качестве имеющих наиболее показательный игровой и/или многослойный интертекстуальный характер подробно проанализированы заглавия «Equal Rites», «Snuff», «Monstrous Regiment». На основе проведенного анализа сделан вывод о том, что, поскольку название романа несет на себе максимальную коммуникативную нагрузку, определяет векторы прочтения текста, открывает путь к авторскому замыслу, вопрос полноценного перевода заглавия и его адаптации с одного языка на другой становится первостепенным. Это особенно актуально при работе с романами Терри Пратчетта, когда утрата изначальной полисемичности, цитатности и игрового начала может привести к потере самой сути авторского стиля писателя.
Бесплатно
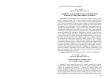
К вопросу о политическом и эстетическом контексте трагедии "Эдип" П. Корнеля
Статья научная
Статья посвящена анализу трагедии П. Корнеля «Эдип», поставленной в Париже в январе 1659 г. Пьеса, созданная по совету суперинтенданта Н. Фуке, разительно отличается по своему сюжету от классических фабульных схем об Эдипе, восходящих к Софоклу и Сенеке. Корнель в значительной степени редуцирует рассказ о жизни Эдипа и Иокасты, развивая при этом историю дочери Лая, Дирцеи, и ее возлюбленного Тезея. В ходе анализа устанавливается, что центральная тема трагедии Корнеля - поиск истинного царя, кровного потомка Лая, который может пожертвовать собой ради спасения Фив от чумы: Эдип изначально не понимает своего предназначения, однако к концу пьесы становится настоящим царем, воплощающим все государство. Выдвигается гипотеза, что такой политический пафос во многом объясняется историческими реалиями Фронды, малолетством Людовика XIV, а также прагматической ориентацией пьесы на светскую аудиторию, ради удовольствия которой Корнель «смягчает» страшные подробности, присущие античному мифу, выстраивает образы Дирцеи и Тезея в соответствии с принципами галантности. Автор приходит к выводу, что пьеса с модифицированным античным сюжетом оказывается ярким воплощением переводческой стратегии «прекрасные неверные», в основе которой оказывается прагматическое изменение источника в соответствии с потребностями современной переводчику публики. Высказывается предположение, что Корнель мог своей пьесой стать, вольно или невольно, проводником идей светского общества и связанного с ним Фуке, арест которого в 1661 г. стал одним из первых самостоятельных шагов Людовика XIV как французского монарха.
Бесплатно

Статья научная
Ритм прозы исследуется не одно десятилетие, но в последние годы в работах нарратологов энактивистов (М. Караччоло, С. Хвен, Я. Попова и др.) получает новое осмысление. Ритм теперь определяется через взаимодействие нарратора и читателя, через читательское вовлечение в ритмическую координацию повествования. В таком случае в понимании ритма акцент смещается на читательское взаимодействие с предложенным ему нарративным миром, на моделирование его телесного и аффективного отклика. В статье с точки зрения ритмической организации рассмотрен роман «Хвали день к вечеру» (Aller Tage Abend, 2012) современной немецкой писательницы Дж. Эрпенбек (J. Erpenbeck, 1967). В романе ритмический рисунок создается чередованиями на разных уровнях организации нарратива: на композиционном (чередование того, что в действительности произошло, и того, что только могло бы); на повествовательном (чередование наррации от первого и от третьего лица); на графическом (чередование курсива и прямого текста); на звуковом (чередование резких звуков и тишины) и на телесном (имитация дрожи, вибраций, «тряски»). Сочетание нескольких ритмических линий в романе создает аффективный резонанс при интерсубъективном взаимодействии читателя с нарративом, сокращает аффективную дистанцию между читателем и происходящим в романе и имитирует пульсирующее движение нарратива. Ритм романа, наконец, моделирует телесный отклик у читателя, посредством такой телесной «тряски» давая ему возможность пережить потрясения ушедшего века.
Бесплатно

Как мыслить французский классицизм: к уточнению методологического основания
Статья научная
В статье доказывается необходимость изменения интерпретативного ракурса видения французского классицизма как культурно-исторического и литературного феномена. Выявляется недостаток традиционного подхода к его исследованию: прослеживается, как закрепляется лаконичная, относительно законченная, устойчивая в ее основных организующих принципах условная схема, которая навязывает конкретному художественному дискурсу жесткие упрощающие знаково-смысловые границы, препятствуя тем самым обнаружению его кардинально значимой изменчивости и незавершенности. Доказывается, что тексты поэтов и драматургов анализируются исходя из определенного набора общих, упрощающих характеристик, так что само понятие «классицизм» по отношению к их творчеству становится штампом, препятствием к обнаружению у этих авторов самостоятельности, так что творческая манера во всей ее объемности, многогранности остается не определена и недооценена. В статье определяются условия, при которых концепт «классицизм» может приобрести необходимую функциональность: отказ от закрепления авторской манеры за поэтологическими нормами, выявление исключительности, принципиальной активности литературного письма, акцентирование того, как автор преодолевает инерцию законов и правил, успешно приспосабливает их для решения собственных художественных задач, при установке на эксперимент, разрыв с традицией реализует оригинальный замысел. Устанавливается, что возвращение классицистическому автору права на свободу, которая была присвоена автором романтическим и таковой закреплена в теории и истории литературы, позволяет поставить вопрос о подвижности классицизма во всей его изменчивой множественности, перевести классицизм из плана идейного в план исторический, придать ему тем самым необходимую процессуальную неоднозначность и вместе с тем установить динамическую связь между XVII в. и нашей современностью, наделив «классицизм» актуальными смыслами.
Бесплатно

Кино и кинематографичность в романе Дж. Керуака "В дороге"
Статья научная
Статья посвящена анализу культового романа писателя-битника Дж. Керуака «В дороге» («On the Road»). Целью является определение и описание особенностей художественного мира автора, реализованных как элементы «кинематографичности». В рамках статьи данный термин описывает специфику образов и мотивов, соотносящихся с миром кино. Их использование в процессе анализа текста указанного произведения может существенно обогатить восприятие творчества Керуака современным читателем. Писатель щедро внедряет в ткань повествования ссылки на известных в его время актеров и их знаковые роли, а также на типовые сюжеты и жанровые особенности фильмов, популярных на момент создания романа. С течением времени явные для поколения битников киноаллюзии стали нуждаться в дополнительной расшифровке. С этой целью качественный анализ англоязычного текста романа был выполнен в два этапа. Сначала, с использованием функции поиска по ключевым словам «movie» и «Hollywood», были обнаружены эпизоды, имеющие связь с указанными понятиями. Далее избранные фрагменты текста, наиболее показательные в контексте статьи, были проанализированы дополнительно. В результате проделанной исследовательской работы отмечается, что Керуак смело использует знакомые его поколению кинообразы, делая еще более яркими описания собственных персонажей. Кроме того, сюжетные повороты и сквозные темы повествования приобретают дополнительный подтекст, проявляющийся на визуальном и текстуальном уровнях. Отсылки к миру кино позволяют автору экспериментировать с жанровыми стандартами, творчески перерабатывая литературные и кинематографические традиции США.
Бесплатно
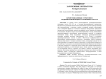
Коммуникативные стратегии в средневерхненемецких заговорных текстах
Статья научная
В данной статье рассматриваются средневерхненемецкие заговорные тексты XIV-XV вв. с позиции функциональной лингвистики. Предметом исследования являются коммуникативные стратегии субъекта заговора при взаимодействии с высшими силами, поддержка которых обеспечивает успех заговорной формулы. В качестве материала использованы практически неизвестные отечественному читателю заговорные тексты Германии из собрания В. Хольцманн. В работу вошло семь комментированных текстов, позволяющих продемонстрировать многообразие коммуникативных моделей в литературе заговорного жанра. Автор выстраивает типологию средневерхненемецких заговоров, развивая методику, предложенную К.М. Хэзеле в отношении древневерхненемецких текстов в работе «Магическая перформативность». Многообразие коммуникативных стратегий в заговорных текстах указанного периода автор сводит к четырем основным типам, иллюстрируя каждый из них рядом примеров из названного корпуса в оригинале и в собственном переводе на русский язык. Актуальность исследования продиктована общим ростом интереса в научном сообществе к литературе малых жанров при слабой разработанности заявленной проблемы в отечественной науке. Автор надеется, что результаты его исследования помогут устранить этот пробел и наметят дальнейшие пути решения. Полученные выводы будут интересны специалистам в области истории немецкого языка и литературы, сравнительного литературоведения, а также фольклористики и истории Средневековья.
Бесплатно

Конфликты и парадоксы золотого блеска литературных метафор
Статья научная
Статья посвящена осмыслению парадоксов англоязычных метафорических структур концептуальной матрицы «золото» в произведениях Уильяма Шекспира и Иоганна Вольфганга Гёте. В фокусе внимания -переплетение золотых образов литературы XVI и XIX вв. с метафорикой современного англоязычного финансового дискурса. К анализу привлечены стилистические средства трагедии «Фауст: Вторая часть» Гёте и четырех пьес Шекспира: «Венецианский купец», «Тимон Афинский», «Все истинно» («Генрих VIII»), «Ромео и Джульетта» в оригиналах и переводах. Персонажи Гёте и Шекспира проходят через искушение богатством, что позволяет на основе герменевтического метода выявить лингвокультурологические сходства и различия метафорического проецирования концептуальных идей авторов. Актуальность исследования -в стремлении расширить существующий контекст научных литературных изысканий об амбивалентной символике золота за счет лингвистического анализа богатейшей метафорики используемых языковых средств в репликах персонажей. В статье прослеживаются интертекстуальные связи с мифическими повествованиями. Очерчены контуры смыслового наполнения золотых метафор. Проведены параллели с другими областями художественного творчества - музыкой, живописью. Многочисленные примеры иллюстрируют, как сеть метафорических ассоциаций расширяет первооснову концептуального конфликта путем переноса концепта в чуждую область (войны, погони, медицины, физики). Результаты исследования могут быть востребованы в лингвистике, когнитивистике, культурологии, а также в сравнительно-историческом изучении литератур.
Бесплатно
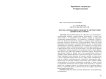
Легенда о вечном жиде в контексте литературной личности Ф.М. Гримма
Статья научная
Переписка Ф.М. Гримма (1723-1807) с Н.П. и С.П. Румянцевыми - малоизученный материал, дающий широкое представление о жизни этого деятеля XVIII в. и освещающий многие вопросы, которые не затрагивают «Литературная корреспонденция» и его переписка с Екатериной II. Одной из таких тем является космополитизм Гримма, за которым прочно закрепилась репутация «идеального космополита» эпохи Просвещения. Однако его письма Румянцевым свидетельствуют о сложной рефлексии на тему его национальной принадлежности. Ощущение эфемерности его положения, отсутствия своего места приводит Гримма к тревожным выводам, и особенно ярко он выражает это в образе Вечного жида. В статье изучается вопрос о том, какие какие народные и литературные традиции повлияли на его восприятие сюжета и каким образом, через призму этого мифа, автор выражает собственные тревоги. Фундаментом представления Гримма о Вечном жиде стала немецкоязычная легенда об Агасфере, широко распространенная в протестантских кругах с начала XVII в. Гримм перенимает многие присущие ей элементы: жалобы на вечную жизнь и тяготы странствий, жажда покоя, мечты о скором конце. Одновременно с этим под влиянием сентименталистских тенденций он переосмысляет миф о Вечном жиде как трагедию одинокого, бессильного перед судьбой человека, сосредотачивается на частном, вызывающем сострадание, и лишает легенду ее грандиозного космического смысла. Гримм создает амальгаму из элементов разных эпох и вариантов сюжета, что позволяет судить об эволюции образа в XVIII в., в переходный период от народной легенды об Агасфере к трагической фигуре романтической эпохи.
Бесплатно
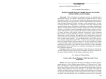
Литературный и культурный диалог в романе Элизы Хэйвуд «Фантомина»
Статья научная
Статья посвящена исследованию диалога как карнавальной и маскарадной культур, так и разных литературных традиций в романе Э. Хэйвуд «Фантомина». Диалог этот реализуется посредством обращения писательницы к образности комедии дель арте, пьесам и стихам ее современников и предшественников (Конгриву, Джонсону, Ширли, Уоллеру), а также языковой игре - все имена героини являются «говорящими», и за каждым таится образ очаровательной плутовки комедии масок, Коломбины. Обнаружение и понимание карнавальной образности в произведении является ключом к раскрытию идентичности главной героини и, в сочетании с анализом биографии писательницы, позволяет ответить на ряд «наболевших» среди исследователей творчества Хэйвуд вопросов, а именно: каково истинное лицо героини; насколько соответствует логике характера финал романа, в котором Фантомина попадает в монастырь; можно ли считать «Фантомину» первым образцом протофеминистского произведения. Выявление присутствующих в тексте романа аллюзий дает простор для новых прочтений сюжета: история главной героини - это и метафора борьбы Элизы Хэйвуд за место под солнцем в литературном мире XVIII в., и участие писательницы в глобальном диспуте её современников о дурном влиянии тех или иных литературных жанров на умы молодёжи, и миф о вечной женственности, которая находится в состоянии бесконечного изменения и сама управляет своим развитием, и драма женщины, разрывающейся между потребностью в свободном самовыражении и желанием быть любимой и принятой.
Бесплатно
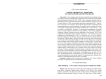
Майлер Уилкинсон - новое имя в североамериканской чеховиане
Статья научная
Статья впервые представляет российской научной общественности слависта и писателя профессора Селкирк-Колледжа из Британской Колумбии (Канада) Майлера Уилкинсона (1953-2020). Статью открывает краткий обзор литературоведческого наследия Уилкинсона. Особое внимание уделено его книге «Темное зеркало» (1996), она посвящена прочтению произведений И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других русских мыслителей и художников слова североамериканскими интеллектуалами. По мнению автора, творческий диалог с культурой и литературой России второй половины XIX - начала ХХ вв. - одна из главных составляющих духовного и культурного формирования писателей США, в частности Эрнеста Хемингуэя, Генри Джеймса, Уиллы Кэсер и Шервуда Андерсона. Майлер Уилкинсон получил признание и как писатель. В 2014 году старейший литературный журнал Канады «Фиддлхед» / The Fiddlehead (издается университетом Нью-Брансуика с 1945 г. и определяет, кто есть кто в литературе Канады) присудил престижную двадцать третью ежегодную премию рассказу Уилкинсона «Рабская кровь». Рассказ посвящен последним часам земной жизни А.П. Чехова. В беллетризованной форме к этой теме уже обращались за рубежом Реймонд Карвер, Анри Труайя, Дональд Рейфилд, в нашей стране - Руслан Киреев. Тем не менее рассказ совершенно оригинален и заслуживает внимания. Рассказ пока еще не переведен на русский язык и все цитаты даны в переводе автора статьи. Подробное рассмотрение особенностей поэтической структуры рассказа «Рабская кровь» демонстрирует, как с помощью смены точек зрения, постмодернистского пастиша, лишенного обычной иронии и сарказма, автор создает убедительный и запоминающийся художественный образ любимого писателя. Текст рассказа буквально соткан из творческого и биографического наследия А.П. Чехова. Литературоведческие исследования по русской литературе, так же, как и художественный рассказ дают право говорить о незаурядном месте Майлера Уилкинсона в североамериканской русистике и чеховиане.
Бесплатно

Между реальным и фикциональным: романы Т. Драйзера в оценке советских читателей 1930-х гг
Статья научная
Советское книгоиздание всегда было ориентировано на связь с читателями. Контактами с читательской публикой с начала 1930-х гг. занимался Массовый сектор ГИХЛ (Государственное издательство художественной литературы, осн. 1930; с 1934 переименовано в Гослитиздат): туда ежедневно приходило огромное количество писем и отзывов о выпущенных издательством книгах. Эта корреспонденция частично сохранилась в архиве издательства. В статье анализируется восприятие советскими читателями 1930-х гг. литературной условности и в особенности представления о жизнеподобии ключевой категории для понятий «реализм», «классика», которыми оперировала советская литературная критика. Материалом для исследования послужили сохранившиеся в Российском государственном архиве литературы и искусства отзывы читателей 1931-1936 гг. о романах Т. Драйзера, который к середине 1930-х гг. прочно завоевал в СССР репутацию крупнейшего зарубежного писателя-реалиста и «современного классика». По итогам исследования предлагается классификация и выделяются четыре типа читателей в зависимости от восприятия литературной категории жизнеподобия. Читатели демонстрируют разные реакции от смешивания реального, фиктивного и имагинарного до попыток создать эго-документы, отталкиваясь от прочитанного в романе. В целом читательские отзывы 1930-х гг. свидетельствуют, что реалистическая литература, в том числе и зарубежная, для многих советских людей стала не только любимым чтением, но и важной частью их жизни, настоящей, реальной ценностью.
Бесплатно
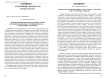
Межжанровые и межкультурные связи комедии Дж. Колмана "Ревнивая жена": от Филдинга к Дефоржу
Статья научная
Популярный драматург середины XVIII в. Джордж Колман Старший вошел в историю английской литературы как автор комедий «Ревнивая жена» и «Тайный брак» (в соавторстве с Д. Гарриком). И хотя ни одну из этих пьес никогда не относили к художественным шедеврам, Колман оставил в европейской драматургии XVIII в. заметный след, в первую очередь - благодаря комедии «Ревнивая жена», породившей ряд переделок и подражаний на континенте. Как показывает автор статьи, одна из причин притягательности этой пьесы для заимствований могла заключаться в том, что в ней Колман Старший удачно адаптировал для сцены сюжет знаменитого романа Г. Филдинга «История Тома Джонса», способствуя закреплению на сцене типа «добросердечного повесы», восходящего к герою книги и приобретшего особую популярность в английской комедии второй половины XVIII в. В литературе этого времени «Ревнивая жена» открывает целую серию драматических адаптаций романа (преимущественно зарубежных), часть которых, весьма вероятно, вдохновил пример Колмана. Другая причина популярности пьесы могла состоять в растущем внимании публики к семейной теме, получившей оригинальное преломление во второй сюжетной линии комедии и обнаружившей привлекательность для драматургов разных направлений - от рококо до сентиментализма. Трансформация характеров и сюжета «Тома Джонса» в «Ревнивой жене», обусловленная их приспособлением к жанровым канонам английской комедии нравов, дополнилась во французских переводах и переделках комедии Колмана (М.-Ж. Риккобони и П.Ж.-Б. Дефоржа) изменениями, определяемыми влиянием местных культурных и сценических норм, а также тенденцией к сентиментализации образов и мотивов, сопровождающей переход от гротескного юмористического комизма к редуцированному комизму сентиментальной драмы.
Бесплатно
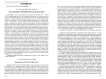
Меланхолия в новейшей польской поэзии
Статья научная
В статье анализируется польская поэзия конца ХХ - начала XXI в., рассматриваемая с учетом категории меланхолии. До момента, когда в польской литературе началась эпоха вовлечения в общественно-политическую активность, в ней преобладали категории, соотнесенные с эстетикой ностальгии, а именно меланхолии. Это была первая реакция литературы на ситуацию, связанную с ощущением аксиологической, эпистемиологической и общественной угрозы, типичной для культуры позднего капитализма. Поскольку меланхолия является категорией в первую очередь психологической, она теснее сопряжена с модернистским, чем с постмодернистским способом мышления. Из этого вытекает тот факт, что чаще встречаются поэтические проявления модернистской меланхолии. Среди них самой убедительной версией поэтической меланхолии представляются т.н. старые мастера - Ярослав Марек Рымкевич или Тадеуш Ружевич. Оба они не стремятся к компенсации потери - как Чеслав Милош или Збигнев Херберт - культивированием нематериальных ценностей. Они привязаны к своей утрате, которая организует их мышление и язык. Поэзия Ружевича доказывает, что меланхолия не обязательно является пассивной категорией, она для поэта прежде всего инструмент критики культуры. Рымкевич же благодаря меланхолии серьезно переоценивает свое раннее культурное мировоззрение: он переходит от языка культуры к «языку натуры». Среди поэтов, дебютировавших после 1989 г, самыми меланхолическими - а меланхолия образует суть всего их творчества - оказываются Марцин Светлицки и Эугениуш Ткачишин-Дыцки. Субъект первого из них все более исчезает, растворяется, информируя о следующих состояниях своей «пост-жизни». Поэтический мир второго крайне монотонен, а его субъект одержим идеей смерти, болезни и бездомности. Самым важным автором в области польской постсовременной «меланхолии» является Анджей Сосновски. Традиционно переживаемое экзистенциальное отсутствие заменяется у него философией языка, связанной с философией смерти - от аллегории Вальтера Беньянина до деконструкции Жака Деррида. Отсутствие является здесь сутью языка, освобожденного от эссенциальности.
Бесплатно

Мифологема сельской России в итальянской путевой прозе 1920-1960-х гг
Статья научная
В статье на материале итальянских травелогов о Советском Союзе периода 1920-1960-х гг. анализируется устойчивое представление о России (СССР) как принципиально сельской стране. Образ сельской России рассматривается как один из ключевых элементов так называемого «русского мифа» - комплекса представлений, сложившихся на Западе в течение XVIII-XIX вв. и в значительной степени определявших европейскую, в том числе и итальянскую рецепцию СССР на протяжении значительной части его истории. Рассматривается функционирование данной мифологемы в составе бинарной оппозиции села и города, которая, в свою очередь, является частью базовой для русского мифа дихотомии цивилизации и варварства, прогресса и отсталости, где «сельская», и, следовательно, «варварская» Россия мыслится как неосвоенное пространство, где доминирует природное, стихийное начало, в противовес цивилизованной, урбанизированной Италии - носительнице высокой культуры и европейских ценностей. В 1950-е гг. под влиянием ряда социально-политических факторов, во взаимодействии с другим мифологическим комплексом -так называемым «советским мифом» - мифологема сельской России переживает серьезную трансформацию, отчасти утрачивая свои отрицательные коннотации и окрашиваясь в ностальгические и романтические тона. Начиная с 1960 г. «сельские» мифологемы в итальянской путевой прозе об СССР постепенно уходят на второй план, что косвенно свидетельствует о постепенном ослабевании мифологического начала в итальянской рецепции Советского Союза в период 1960-1980-х гг.
Бесплатно

Модификация жанра научно-фантастического романа во Франции
Статья научная
Эволюция и модификация научно-фантастического романа во Франции, рассмотренная в диахроническом аспекте, показывает сложное взаимодействие литературных традиций, социально-политических контекстов и развивающегося технологического прогресса. Это не прямолинейное развитие, а скорее разветвленное повествование с периодами расцвета, упадка и возобновления интереса к жанру. В статье предпринята попытка проследить генезис и модификацию жанра французского научно-фантастического романа в диахроническом аспекте, принимая во внимание его полижанровость и интертекстуальность. В исследовании рассматривается эволюция жанра научно-фантастического романа во Франции, начиная с его классических корней и заканчивая современными тенденциями. Анализируются ключевые этапы развития жанра, выявляются факторы, влияющие на его модификацию, и рассматриваются основные тематические и стилистические особенности французской научной фантастики. Особое внимание уделяется влиянию философских, социальных и политических контекстов на формирование жанра, а также взаимодействию научной фантастики с другими литературными направлениями. На основе анализа произведений ключевых авторов выявляются основные тенденции модификации жанра во Франции, такие как усиление социальной критики, философское осмысление технологического прогресса и эксперименты с формой и нарративом. Статья предлагает новый взгляд на эволюцию французской научной фантастики и ее вклад в мировой литературный процесс. В исследовании приведены конкретные примеры творчества французских авторов, внесших вклад в его зарождение и развитие. Новизна исследования заключается в том, что впервые в России жанр французской научной фантастики рассматривается как культурный и исторический феномен и выделяется разветвленная система его поджанров. Особое внимание уделяется жанровому эклектизму, прослеживаются истоки научно-фантастического романа, рассматривается появление научно-чудесной фантастики во Франции, выделяются основные вехи становления и развития данного жанра во Франции, приводится обзор некоторых современных произведений исследуемого жанра, а также определяются основные тематические и жанрово-стилевые черты французского научно-фантастического романа.
Бесплатно
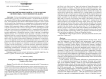
Монгольский комментарий к "Сутре о восьми светоносных": об особенностях жанра
Статья научная
В статье рассматривается монгольская рукопись под названием «Комментарий к “[Сутре] о восьми светоносных”» из фонда Института восточных рукописей РАН как образец жанра нарративов, связанных с сутрами. Как правило, такие нарративы представляют собой сборники рассказов о пользе чтения той или иной сутры. Большинство из сохранившихся в тибето-монгольской традиции сборников связаны с «Алмазной сутрой», рассматриваемый же текст представляет собой единичный образец подобного нарратива, посвященного «Сутре о восьми светоносных неба и земли». Несмотря на то что оригинальный китайский текст сутры относится к апокрифической (т. е. неканонической) литературе, в Тибете и среди монгольских народов она считалась истинным словом Будды и активно применялась в буддийских ритуалах. Анализ структуры и содержания сборника показал, что он включает восемь рассказов и выстроен по типу «обрамленной повести», когда все рассказы (за исключением седьмого) вставлены в общую «рамку» повествования. Некоторые композиционные элементы заимствованы из сутр. В отличие от аналогичных сборников, посвященных «Алмазной сутре», в этом нарративе отмечается стремление авторов связать его с содержанием сутры путем многочисленных отсылок к буддийским идеям, отраженным в сутре. Кроме того, лишь три рассказа (с четвертого по шестой) тематически связаны с «Сутрой о восьми светоносных», в остальных рассказах, призванных продемонстрировать те или иные буддийские идеи, она не упоминается. Сопоставление со сборниками, посвященными «Алмазной сутре», показывает отсутствие жанрового единообразия, вызванное, по нашему мнению, неразвитостью этого жанра в тибето-монгольской традиции.
Бесплатно
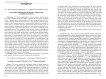
Морские образы в романе Дж. Уинтерсон «Хозяйство света»
Статья научная
В статье рассматриваются поэтологические особенности образов моря, морских обитателей, корабля в романе Дж. Уинтерсон «Хозяйство света». Сохраняя память о приобретенных в истории литературы значениях и наполняясь новыми символическими смыслами, они участвуют в процессе трансгрессии. Роман буквально проникнут художественной образностью, связанной с морем. Вместе с интертекстуальными включениями образы морской стихии образуют особенное онейрическое пространство, типологическим признаком которого является синтез реального с ирреальным. Так, Ам Парве - Поворотная Точка, приморский поселок Сольт и морской город Бристоль описаны топографически точно и вместе с тем метафорически условно. Совокупность образов, определяемых концептом моря, играет важную роль в создании художественной антропологии и антропокосмологии, символизируя жизнь, становясь синонимом судьбы персонажей - их представлений о мире, памяти (исторической и экзистенциальной), художественно-условным аналогом постигающего мир сознания. Отмечена спациализация как особенность поэтики произведения и мотивированный этим перенос акцента с темпоральной его организации на пространственную. Онейрическое пространство, определяемое морем, акцентировано интертекстуальным пересозданием легенды и рыцарского романа о Тристане и Изольде, которые в тексте романа Уинтерсон вместе с оперой Вагнера образуют палимпсестную аллюзию. Несмотря на то, что море не является в романе объектом непосредственного изображения, спектр определяемых им образов способствует расширению смысла повествования, созданию картины мира, выполняя разнообразные поэтологические функции, участвуя в организации персонажной системы, смыслового пространства текста и спациопоэтики романа.
Бесплатно

Неестественное чтение романа «Другое тело» Милорада Павича
Статья научная
В романном творчестве Милорада Павича почти нет романа, в котором каким-то способом не осмысливаются или переосмысливаются разные концепты теории чтения, начиная с возможности кодированного (активного) читателя его произведений и заканчивая новаторством, заключающемся в продвижении новых приемов чтения (по определениям, с точки зрения произвольно выбранной стороны, чтения назад, чтения с помощью гадания на таро картах, чтения в соответствии с пересечениями гороскопических знаков, и др.). В исследованиях романов Милорада Павича уже многократно выделялся антимиметизм как повествовательный прием романного творчества этого писателя. Однако, определение антимиметизм в основном указывает на выраженный искусственный элемент романов Павича (что в то же время является одной из характеристик постмодернистской литературы) - неконвенционализм и нарушение онтологических границ, которые в миметических романах бережно охраняются, в то время как неестественные элементы повествования и неестественные действия (за исключением фантастики и демонического мира романов) до сих пор не были подробно рассмотрены исследователям. Цель нашего исследования - толкование романа «Другое тело» с точки зрения игры Павича с концептами неестественной нарратологии (в первую очередь мертвым рассказчиком) и освещение потенциала неестественного чтения как кодированной стратегии чтения этого романа. В выводах работы указаны природа и функция данной стратегической игры в романе «Другое тело», и ее значение в рамках теории неестественного чтения.
Бесплатно
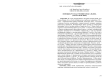
Немецко-русская утопия Томаса Манна ("Гете и Толстой")
Статья научная
В статье рассматривается историко-литературный этюд Томаса Манна «Гете и Толстой. Фрагменты к проблеме гуманизма» (1921- 1932) - выразительный пример немецкой эссеистики ХХ в., последняя отчаянная попытка возрождения гуманистической традиции накануне нацистского переворота. Интерпретируя факты личной и литературной биографии Толстого на фоне жизни и творчества Гете, Т. Манн отнюдь не стремится к научной объективности. Его книга - не научное исследование, а образец синкретической философской прозы, в которой эмпирический материал проецируется на бытийные универсалии, а идея как принцип изображения сливается с художественной формой. Толстой и Гете (как и контрастная пара Шиллер - Достоевский) получают у Т. Манна функцию «personnages conceptuels» (G. Deleuz, F. Guattari), обеспечивающих развитие авторской мысли. Имена исторических личностей, которые они носят, в значительной степени условны, их связь не теснее, чем связь между литературным героем и его реальным прототипом. Искусство психологического портрета, яркие повествовательные эпизоды, парадоксальность философской аргументации, своевольная интерпретация обильных цитат - все служит Т. Манну средством создания художественно-идеологической конструкции, преобразующей антитезу варварской России и цивилизованной Европы в сверхнациональный миф о западно-восточном культурном синтезе. Как показано в статье, несущим элементом этой конструкции является неохристианство Д.С. Мережковского, в котором Т. Манн узнает наследие классической немецкой культуры. Идейная встреча Т. Манна с Мережковским происходит в общем методологическом поле, отграниченном, с одной стороны, от традиционного историко-генетического изучения литературных фактов, с другой - от филологического анализа текста как чистой художественной формы. Подобно Мережковскому, Т. Манн видит свою задачу в создании целостного образа творческой личности художника, представляющей собой сплав его личных биографических переживаний и эпохального чувства жизни, поэтики его произведений и духовного опыта их толкователя.
Бесплатно
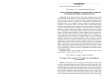
Образ "новой женщины" в романе Джека Лондона "Маленькая хозяйка большого дома"
Статья научная
Роман Джека Лондона «Маленькая хозяйка Большого дома» («The Little Lady of the Big House», 1916), вышедший последним при жизни писателя, занимает особое место в творчестве автора. Социально-экономическое и культурное развитие США на рубеже XX в. способствовало появлению новых взглядов на роль и место женщины в семье и обществе, которые находят свое отражение в исследуемом романе. В настоящей работе рассматривается образ главной героини романа в свете концепции о «новой женщине» на основе работ С. Тиши (C. Tichi) и Л. Абрамс (L. Abrams). В статье анализируются особенности выражения в образе Паолы Дестен Форрест характерных черт женского образа XX в., отражающихся в образовании героини, ее роде деятельности, положении в браке и любовном треугольнике, роли матери. Внимание также уделяется описанию и анализу особенностей XIX столетия в образе Паолы, своеобразию использования романтических формул в создании портрета и его соотнесенности с образом Большого дома. На основе изложенных данных авторы исследования приходят к выводу, что сочетание традиций XIX и XX вв., мужских и женских характеристик в образе главной героини обусловлено авторской интенцией, направленной на создание образа идеальной женщины. Поскольку на сегодняшний момент существуют лишь отдельные несистематизированные размышления об образе главной героине романа «Маленькая хозяйка Большого дома», в полной мере не отражающие особенности его построения, данное исследование претендует на значительную степень актуальности и раскрывает новые аспекты образа главной героини романа.
Бесплатно

