Статьи журнала - Проблемы исторической поэтики
Все статьи: 940
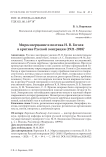
Миросозерцание и поэтика Н. В. Гоголя в критике русской эмиграции (1921-2018)
Статья научная
Русская эмиграция уделила Н. В. Гоголю исключительное внимание (сравнимое, может быть, только с А. С. Пушкиным и Ф. М. Достоевским). Тематика и проблематика гоголеведческих исследований, написанных в Русском зарубежье, чрезвычайно разнообразна. При этом преимущественное внимание в них уделено поэтике произведений Гоголя и религиозному миросозерцанию писателя. Гоголь и Достоевский, Гоголь и христианское отношение к смеху, проблема пошлости в творчестве Гоголя, поэтика страха в повести Гоголя «Вий», театральная эстетика Гоголя, эволюция Гоголя как писателя, ритм прозы Гоголя, проблема человека у Гоголя - все эти вопросы поэтики Гоголя впервые поставлены в критике Русской эмиграции и получили дальнейшее развитие в отечественной науке. Благодаря работам К. В. Мочульского, В. В. Зеньковского, Д. М. Чижевского, С. Л. Франка впервые были опровергнуты укоренившиеся в литературоведении ложные концепции личности Гоголя. Эмигрантское гоголеведение органично вошло в научный оборот современного литературоведения. Несмотря на ограниченную источниковедческую базу, работы авторов Русского зарубежья знаменовали собой новый, важнейший этап в освоении творческого наследия Гоголя.
Бесплатно

Мистика позднего блока и начало советской литературы
Статья научная
В статье аргументируется, что в творчестве позднего Блока наблюдается не только освоение или развитие пушкинской традиции в 20 веке, как это принято до сих пор считать, сколько ее радикальное переосмысление и, в конечном итоге, разрыв с ней. Особого рода мистика Блока, порвавшего с православной традицией в поэме «Двенадцать», не случайно стала первой страницей советской литературы. Гностицизм проявляется в зыбкости границ между светом и тьмой, между бесами и ангелами, между Христом и антихристом. Выделяется концепт «вторичной сакрализации», который проявился у Блока через ироническое отношение к христианской стабильности мира и утверждение ценностей, прямо противоположных православной аксиологии.
Бесплатно

Миф и легенда в творчестве Н. С. Лескова (рассказ «Белый орел»)
Статья научная
Предметом исследования является рассказ Н.С.Лескова «Белый орел» (1880), входящий в цикл «святочных» рассказов писателя. Автор устанавливает в тексте Лескова ряд мифологических оппозиций, актуальных для святочной семантики: бес - ангел; смертный человек - бессмертный Бог, Христос; земля - небеса. Большое внимание уделяется образу орла в античной и христианской традициях (орел - птица богов, символ воскресения и духовного обновления, etc.). Исследователь интерпретирует рассказ Лескова как историю о том, как высокая святочная тема преодоления смерти, облачения тленного человека в нетленное божество «профанируется», оборачивается розыгрышем, возней вокруг ордена.
Бесплатно

Миф и сказка в рассказе В. П. Астафьева «Мальчик в белой рубахе»
Статья научная
В статье рассмотрены фольклорные и мифопоэтические принципы изображения в рассказе В. П. Астафьева «Мальчик в белой рубахе» (из цикла «Последний поклон»). Анализ поэтики произведения выявил ряд знаковых и символических образов, скрытых метафор, порождающих на уровне подтекста внутренний повествовательный код, связанный с мифом и сказкой как разными модусами народной культуры. Особые сюжетные функции выполняет в рассказе комплекс мотивов, обнаруживающих параллели со сказкой «Гуси-лебеди»: отлучка родителей, нарушение запрета, неожиданное иррациональное исчезновение ребенка и уход его в «иномирье», поиск матерью/сестрицей, переход из мира живых в мир мертвых. Наряду со структурными элементами сказки в неменьшей мере актуализируются в художественной системе рассказа Астафьева образно-смысловые коды архаического (языческого) мифа и народно-христианской традиции (христианского мифа). В рамках пространственно-временной организации произведения выявлены элементы мифологической модели мира, в том числе мифологема пути, хронотоп границы, архетипический образ Матери Сырой Земли и др. Ключевое сюжетное событие рассказа — иррациональная трагическая смерть невинного ребенка — получает возможность экзистенциально-духовной интерпретации на глубинных уровнях народной культуры, находящих отражение в фольклоре и мифе.
Бесплатно

Миф о народе в драме Л. Н. Толстого «Власть тьмы»
Статья научная
Миф о народе — один из главных аксиологических мифов русской литературы. В произведениях Д. В. Григоровича, И. С. Тургенева, Н. А. Некрасова, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, писателей-народников русские крестьяне представлены как лучшая часть нации. В пьесе Л. Н. Толстого «Власть тьмы» на уровне фабулы создается иллюзия разрушения мифа (власть денег, прелюбодеяние, убийство ребенка). Но Толстого интересует не само преступление, а причины, которые к нему привели. Никита оторван от крестьянского мира. Жизнь вне семьи, артельная жизнь, способствовала первому моральному падению героя. Это — правда социально-экономическая. Но автор ведет читателя и зрителя от правды социально-экономической, правды отношений полов к правде Божьего суда. Носителем этой правды становится Аким, в котором прослеживаются черты русской святости (аскеза, юродство). Покаяние Никиты тоже дано в аспекте мифа о народе, как и молчание крестьян. Покаяние — первый шаг к обновлению и очищению грешника. Таким образом, в драме «Власть тьмы» Толстой не разрушает миф о народе, он встраивает его в новую социально-экономическую реальность Российской империи.
Бесплатно

Статья научная
«Поэтика» Аристотеля сформировала основные понятия европейского литературоведения. Однако различные эстетические системы придавали идеям Аристотеля разное, подчас противоположное вложенному философу, значение. Μῦθοϛ, один из самых сложных терминов Аристотеля, претерпел существенное изменение в процессе развития европейской теории литературы. Латиноязычная традиция отождествила его с fabula, но семантика этих терминов не совпадает. Русская литературная теория восприняла термин fabula как аналог μῦθοϛ. В результате возникла терминологическая полисемия. Термин «фабула» у русских авторов XVIII в. обозначал неправдоподобный вымысел, содержание поэтического произведения, независимо от его правдоподобия, и жанр. К началу XIX в. для обозначения жанра закрепился русский термин «басня». Этот же термин воспринял и другие значения более раннего термина «фабула» (fabula). Постепенно, по мере усиления романтических интенций и редукции классицизма, в русской критике термин «басня» утратил значение структурно-содержательного комплекса произведения и использовался для обозначения неправдоподобного вымысла и жанра. Окончательный отказ от использования термина «басня» в качестве аналога Аристотелева термина μῦθοϛ произошел у А. И. Галича. Критические статьи В. Г. Белинского подтверждают завершение этого процесса.
Бесплатно

Мифологема «светлый град» в лирике Пимена Карпова
Статья научная
В статье анализируется понимание поэтом Пименом Карповым мифологемы «Светлый Град». Необходимость анализа этой мифологемы вызвана тем, что образ Светлого Града является ядром мифопоэтической концепции, составляющей основу мировидения Карпова. Топонимика сакрального пространства Светлого Града, Небесного Града, Града Божьего в лирике Карпова многогранна. Она реализуется в поэзии и как реальное земное пространство, и как определенный символ с размытыми границами: это и небесный град, и возможный рай на земле, и земля обетованная, земля праотцов, и даже просто земля для крестьянина. Идеальное мироустройство имеет как пространственные ориентиры, так и временные. Достижение Светлого Града, по убеждению Карпова, возможно только через самопожертвование. Из боли и страданий рождается счастье - это единственно возможный способ обретения заветного Рая. Но для Карпова это не только личный путь, но и путь, миссия России, сопричастность судьбе которой для лирического героя несомненна. Историческая миссия России видится Карпову в жертвенном самосожжении как пути к Преображению. Парадоксальное сближение Христа и антихриста в его произведениях является отображением духовной ситуации рубежа веков - крайней амбивалентности личностных начал. Фрагментарность и афористичность поэтического языка Карпова, калейдоскопичность его художественного пространства, с одной стороны, а с другой - скрытая целостность, исходящая из единства видимого и невидимого миров, роднят его поэзию с культурой модернизма.
Бесплатно

Мифологема Орфея в античной культурной традиции
Статья научная
В статье исследованы особенности формирования мифологемы Орфея в античной культурной традиции. Анализируя произведения греко-римских авторов, таких как Пиндар, Эсхил, Еврипид, Аполлоний Родосский, Вергилий и Овидий, можно выделить специфику создания образа Орфея. Он рассматривается перечисленными авторами не только как поэт и музыкант, утративший возлюбленную Эвридику, но и как основатель культовых обрядов, орфических мистерий. «Орфизм» как система религиозно-философских взглядов получила наибольшее распространение в VI в. до н. э. в Аттике эпохи Писистрата. Дионис, почитаемый орфиками, был близок земледельцам как божество вечного возрождения, мощных природных сил. В античной культурной традиции образ Орфея вбирает как аполлонические, так и дионисийские черты. Идеи орфической философии можно обнаружить в религиозно-философском учении школы пифагорейцев, в трудах Платона. Оригинальная трансформация орфико-пифагорейских идей и мифологемы Орфея происходит в «Георгиках» Вергилия и «Метаморфозах» Овидия, которые также являются предметом рассмотрения в данной статье. Сравнительно-исторический анализ художественных произведений и философских трактатов античности, проведенный в ходе настоящего исследования, свидетельствует о том, что мифологема Орфея в античной культурной традиции является примером воплощения синкретического единства искусства и религии в архаическом сознании.
Бесплатно

Мифологема горы в алтайском тексте русской литературы
Статья научная
В статье представлен обзор научных источников о литературной монтанистике русского Алтая. Описания высокогорных ландшафтов, созданные путешественниками XIX в., помимо реалий местности включали аналогии с другими географическими объектами (Швейцарскими Альпами, Ливанским хребтом, Кавказом), с иным видом художественного дискурса - живописью, с другим типом мироустройства - terra incognita. В публицистике XIX в. появился мотив духовного преображения и чуда (Алтай = Афон), который оказался особо востребованным в православной литературе рубежа XIX-XX вв. Советская литература подвергла десакрализации алтайский культ гор и Хозяина Алтая, ранее представленный, в основном, в литературе этнографического характера. С 1960-х гг. нарастала тенденция неомифологизации гор Алтая. В работе выявлена семантика мифологемы горы в контексте алтайского текста русской культуры на примере «краеведческого романа» В. Н. Токмакова «Танец маленьких королей». Неоромантический мир произведения поделен на две реальности: фиктивную (столица) и подлинную (Алтай как земная проекция потусторонней Белой Горы). Значение Горы (sic!) в романе основано на универсальных смыслах, связанных с данной мифологемой. Гора выступает как локус битвы Добра и Зла, островок спасения в мировом потопе, вместилище подземных сокровищ, пространство инициации (наряду с лабиринтом и пещерой как антигорой), эквивалент дерева / человека / книги и пр. За счет своеобразной комбинации этих идей, их конкретной историко-географической и фантастической оформленности автору удалось создать оригинальный образ горы.
Бесплатно

Мифологизация биографического нарратива в дореволюционных энциклопедических статьях о Достоевском
Статья научная
В статье описан ряд методологических проблем исследования биографического нарратива Достоевского и его рецептивной традиции в целом: субъективность традиционных исследовательских подходов, рецептивный конфликт биографического мифа и негативных «двойников» писателя, противоречия массового и индивидуального восприятия. Автор в поисках наиболее общих элементов биографического нарратива Достоевского обращается к дореволюционным энциклопедическим статьям о писателе. Подразумевается, что сам жанр, в котором существует здесь биографический нарратив, исключает субъективные искажения образа, представляет Достоевского в наиболее обобщенном, «узуальном» варианте. На этом материале делается вывод о принципиальной литературоцентричности такого образа Достоевского, неизбежности упрощения и формирования сниженного, «травестийного» двойника. При этом сама структура анализируемых статей противоречива: в ней сталкивается авторская субъективная оценка, проникающая все-таки даже в справочно-энциклопедические издания, и логика формирования и развития образа Достоевского в пространстве «культурного бессознательного». Иными словами, мифологическое восприятие писателя не может быть побеждено ни сколь угодно яркой критической рефлексией, ни официальной фиксацией и пропагандой историко-литературного канона. Кроме того, мифологический образ писателя, неосознанно создаваемый массовым читателем, в отдельных аспектах более зависим от логики жизненного и художественного текста Достоевского, а потому порой и более точен.
Бесплатно

Мифология и поэтика социалистического реализма
Статья научная
Цель исследования - выявление художественных особенностей социалистического реализма как культурного феномена. В статье рассмотрена история возникновения термина и стоящего за ним понятия в связи с общественно-политической ситуацией в СССР на рубеже 1920-1930-х гг. Критически осмыслено закрепленное в Уставе Союза советских писателей определение соцреализма как «правдивого, исторически-конкретного изображения действительности в ее революционном развитии» в сочетании с «задачей идейной переделки и воспитания трудящихся в духе социализма». В работе соцреализм представлен как метод, стиль, литературно-художественное направление; это сделано для того, чтобы понять, насколько он был явлением художественной культуры, а насколько - пропагандистской идеологемой. Проанализированы особенности пафоса, типологии героев, наличие ряда регламентирующих принципов в поэтике соцреализма. Показано, что соцреализм стал важным инструментом формирования мифологии социализма. В теоретическом аспекте социалистический реализм оказался во многом попыткой синтеза ряда особенностей, присущих реализму, романтизму и классицизму, а с точки зрения историко-культурной явил собою попытку реализации в художественном творчестве (в первую очередь в содержании произведений) идеологемы, вытекающей из так называемой триединой задачи строительства коммунизма, предполагавшей, в частности, воспитание человека нового типа. В статье рассмотрен широкий спектр мнений по поводу сущности социалистического реализма и реализма как такового, высказанный в материалах советского периода (М. Горький, И. В. Сталин, И. М. Гронский, Н. И. Бухарин, А. И. Овчаренко, А. Д. Синявский, В. В. Кожинов, В. Н. Турбин) и в работах современных исследователей в России и за рубежом (А. Ю. Овчаренко, Евг. Добренко, Л. А. Спиридонова, Б. М. Гаспаров, Х. Гюнтер, К. Кларк и др.). Авторы статьи приходят к выводу о возможности выделения особенного соцреалистического направления и этапа в рамках советского периода отечественной литературы - как выражения культурно-идеологической парадигмы, не находя при этом ничего специфического в поэтике соцреализма, что радикально выделяло бы ее из поэтики реализма и романтизма. Понятие критического реализма, от которого отталкивались теоретики соцреализма для обоснования нового метода по принципу от обратного, видится сегодня избыточным с точки зрения теории литературы.
Бесплатно

Мифопоэтическая модель смерти в поэме С. А. Есенина «Черный человек»
Статья научная
В статье представлен анализ проблематики поэмы С. А. Есенина «Черный человек» и центрального образа произведения — таинственного и мрачного визитера. Автор рассматривает многообразие интерпретаций, предложенных исследователями: от понимания Черного человека как обличителя, двойника поэта или представителя темных сил до трактовки его как проекции внутреннего мира С. А. Есенина и отражения его душевного кризиса. При этом подчеркнута связь поэмы с биографией поэта и его религиозно-фольклорным мировоззрением. Композиционные и художественные приемы, использованные поэтом, включают лексический и кольцевой повтор, восходящую и нисходящую градацию, цветовую гамму произведения и средства выразительности, содержащие фольклорно-мифологические коды смерти. Танатологическая символика, этнопоэтические константы и инфернальная образность совместно формируют “sensusmortis” поэмы и усиливают восприятие пейзажа как предзнаменования надвигающейся беды. Центральный образ Черного человека осмыслен не только как мистический персонаж или инфернальная фигура, но и как участник своеобразного ритуала, нацеленного на завладение душой героя, что подчеркнуто поведенческими и речевыми особенностями непрошеного гостя. Финальный символ разбитого зеркала и фольклорная формула «синеющее утро» интерпретированы в русле фольклорных представлений о границе между мирами, предвестии беды и попытке изгнания злого духа. В результате поэма представлена как мифопоэтическое воплощение темных предчувствий Есенина и пророческое предзнаменование трагической развязки его жизни.
Бесплатно

Мифопоэтические и христианские мотивы в трилогии о Лёвеншёльдах С. Лагерлёф
Статья научная
Особенностью художественной концепции С. Лагерлёф является сосуществование в рамках одного текста мифологической, фольклорной и христианской традиций, вымысла и реальности, мистики и психологизма. Цель данного исследования - проследить особенности взаимодействия фольклорной и христианской традиций в трилогии о Лёвеншёльдах, используя мотивный анализ. Первая часть трилогии («Перстень Лёвеншёльдов») ориентируется на жанры фольклорного демонического рассказа и одновременно - готического романа конца XVIII в.; вторая часть («Шарлотта Лёвеншёльд») соответствует свадебной обрядовой традиции и в то же время реализует жанрово-стилистические особенности романтического психологического романа первой половины XIX в.; третья часть («Анна Сверд») преобразует сказочную фольклорную традицию в неоромантический роман второй половины XIX - начала XX в., учитывающий литературный опыт реалистического романа. С. Лагерлёф проводит читателя через всю историю шведской (шире - европейской) культуры и одновременно по пути христианского преображения: от подчинения человеческим страстям в первой части, через самопожертвование и любовь во второй, к приятию мира и смирению в третьей.
Бесплатно

Мифопоэтический образ «птичьего царя» в «Сказке о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина
Статья научная
Статья представляет собой комплексное исследование источников и семантики загадочного образа птицы Строфилус в черновом наброске «Сказки о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина, где старуха в одной из сцен, не вошедших в итоговый текст, желает стать римским папой. В центре изучения — полемика с гипотезой известного пушкиниста и германиста М. Ф. Мурьянова, который, опираясь на данные средневековой латинской лексикографии, отождествил птицу Строфилус с маленькой птичкой крапивником (корольком) (лат. trochilus), считавшимся в западноевропейском фольклоре пародийным «птичьим царем». Автором предложена иная трактовка. Для этого привлекается широкий круг источников — от русской народной лексики и духовных стихов («Стих о Голубиной книге», «Стих о Егории Храбром») до трудов православных книжников, включая Максима Грека. В статье доказывается, что Строфилус представляет собой одну из многочисленных графических и фонетических вариаций названия страуса. Это название восходит к греко-латинскому struthio (ср. еще: струфокамил, стратим, страфил и мн. др.). В контексте книжной и фольклорной традиции страус (Страфил) осмыслялся как могущественная «матерь птиц» или настоящий «птичий царь». Такая трактовка делает его появление символически оправданным при описании нелепой папской тиары, венчающей честолюбивую старуху-папессу. Все это может пониматься и как сатира на католицизм. Исследование позволяет не только уточнить конкретный источник пушкинского образа, но и продемонстрировать впечатляющую глубину интеграции поэтом разнородных фольклорных и книжных мотивов в единую авторскую художественную систему.
Бесплатно

Мифы о смерти Н. В. Гоголя: источники, становление, поэтика
Статья научная
В статье прослежено зарождение мифа о погребении Гоголя в состоянии летаргии. Исследуются идеологические корни этого мифа, до сих пор заслоняющего в массовом сознании действительную историю последних дней жизни Гоголя и само содержание его духовного наследия. Затронут широкий круг проблем, связанных с практикой профессионального лечения в первой половине XIX в., в том числе явление меркантилизма и непрофессионализма отдельных докторов того времени, тема частого неразличения тогдашней медициной клинической смерти и состояния летаргии, а также вопрос о соотношении физиологической составляющей болезни и духовных средств исцеления от недуга, применявшихся Гоголем. Обращается внимание на безуспешность долгого лечения писателя у многочисленных европейских и отечественных медицинских светил. Устанавливаются личности нескольких авторитетных врачей, лечивших писателя. Отмечается апокрифичность ряда сведений, сообщаемых в мемуарах штаб-лекаря А. Т. Тарасенкова, посвященных Гоголю. Искажение гоголевского облика в этих воспоминаниях объясняется прагматическим подходом доктора в отстаивании корпоративных интересов врачебного сословия. Содержание последних дней Гоголя вписано в контекст представлений писателя о промыслительном значении ниспосылаемых недугов, которые писатель рассматривал как некие «дорожные знаки», призывающие каждого к поискам верного пути, а художника, кроме этого, еще и к усовершенствованию его писательской деятельности. Изучение предвзятых мнений о Гоголе как о религиозном фанатике, поведение которого перед смертью будто бы послужило причиной его преждевременной кончины, позволяет сделать вывод о целенаправленном и конструируемом характере биографического мифа.
Бесплатно

Молитва Кирилла Туровского в художественной системе рассказа Н. С. Лескова “На краю света”
Статья научная
Автор поднимает тему важности молитвы в общей художественной концепции рассказа Лескова, её преображающую героев функцию, затрагивая также историю появления самого молитвенного текста и его роль в жизни писателя.
Бесплатно

Молитва в лирике А. Блока («Девушка пела в церковном хоре...»)
Статья научная
В статье рассмотрен жанровый конфликт молитвы и стансов в стихотворении А. Блока «Девушка пела в церковном хоре...» (1905). Основной церковный источник, формирующий лирическую мо дель стихотворения, — молитва. Жанровый канон стансов, где строфы содержательно и композиционно обособлены, преобразует централь ную музыкальную тему в четыре картины-события, связанные по прин ципу диссонанса. Каждая из строф стансов «Девушка пела в церковном хоре...» имеет свою «смысловую точку» (молитва — вокал — иллюзия — прозрение) и открывает «другое» содержание происходящего, усилива ет и развивает трагическую тему двоемирия, вольных и невольных под мен, духовных исканий и утрат времени. Стансы Блока — это поэтическое свидетельство выхода современного человека из молитвенного сосредо точения. Модель «конфликтного синтеза» церковных и художествен ных жанров отражает оппозицию религиозное / мистическое в эстетике символизма и усиливает трагический пафос лирики А. Блока.
Бесплатно

Молитва и «духовная составляющая» образа возлюбленной в лирике А. С. Пушкина
Статья научная
Молитва в лирике А. С. Пушкина предстает в своем экклесиологическом контексте. В «молитвенных» стихотворениях Пушкина, посвященных женщине, актуализируется мотив одухотворения любовного чувства в свете христианского восприятия красоты. Поэтические «молитвословия » Пушкина оказываются созвучны святоотеческой мысли. В «Акафисте Екатерине Николаевне Карамзиной» передана молитва-восхваление, в стихотворениях «Я вас любил: любовь еще, быть может...» и «К***» (1832) представлена молитва-благословение, в сонете «Мадона» — молитва-благодарение, в стихотворении «Красавица» (1832) — молитва-созерцание. Героиня этих пушкинских стихотворений осознается как божественное создание, и образ ее является сакральным для автора. В лирических текстах Пушкина опознаются глубокие евангельские смыслы, обнаруживается их тесная связь с православным богослужени ем и гимнографическим творчеством. Молитва у Пушкина передается через иконичность слова и образа, влияя на изменение мироотношения поэта, эволюционирующего от эмоционально-чувственного восприя тия к духовно-аскетическому мироосмыслению.
Бесплатно
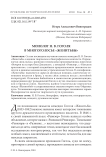
Монолог Н. В. Гоголя в многоголосье "Женитьбы"
Статья научная
Статья посвящена изучению замысла комедии Н. В. Гоголя «Женитьба» в едином творческом и биографическом контексте. Определяется связь пьесы с ранними гоголевскими произведениями, повестями «Вечеров на хуторе близ Диканьки», с комедией «Ревизор», с «Невским проспектом», с историей позднейшего предполагаемого сватовства писателя и давними монашескими устремлениями Гоголя. В «полифонии» «Женитьбы» выявляется скрытая авторская позиция, аскетическое отношение писателя к браку, а также связь замысла пьесы с житийной литературой. Отмечены библейские и евангельские реминисценции, определявшие круг размышлений Гоголя о путях спасения в монашестве или в брачном союзе. Намечены идейно-тематические переклички между «Женитьбой» и сохранившимися главами второго тома «Мертвых душ». Установлены вероятные прототипы некоторых гоголевских героев. Подчеркивается единство творческого пути художника.
Бесплатно

Статья научная
Мотив «рокового наследства» в романе Ф. М. Достоевского «Идиот» рассматривается в статье с трех сторон: во-первых, комментируются его реалии, связанные с московским миром семьи Куманиных, многие члены которой стали прототипами героев произведения; во-вторых, «куманинский след» выявляется на уровне сюжета. Реальный комментарий дополняется анализом мифопоэтической модели реализации мотива наследства. Его атрибуты - это «узелок» в руках князя Мышкина и «дело» («письмо»), «загадочным» образом связанные. Цепная связь между этими деталями отражает последовательное, в соответствии с кумулятивной логикой разрешения фольклорной загадки, сюжетное развитие мотива «рокового наследства» в романе. Другая характерная особенность его мифопоэтики - символический параллелизм судеб и образов Рогожина и Мышкина. В-третьих, в статье выявляется связь мотива наследства в тексте Достоевского с литературной традицией, прежде всего с творчеством Л. Толстого и Бальзака. Так, пародийная реактуализация раннего очерка французского писателя «Несчастный» в пасквиле Келлера и Лебедева маркирует переход Достоевского к «реализму в высшем смысле», что подтверждается общей динамикой работы над «Идиотом», которая в итоге свелась к синтезу пережитого личного опыта с литературной традицией и культурной памятью. В результате делается вывод о том, что в процессе художественной реализации мотива «рокового наследства» в романе «Идиот» произошла контаминация автобиографического нарратива с соответствующими фольклорно-мифологическими и литературными моделями.
Бесплатно

