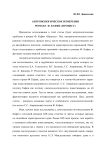Статьи журнала - Новый филологический вестник
Все статьи: 1787
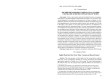
Английский модернистский рассказ сегодня: содержание понятия и проблемы изучения
Статья научная
В статье представлен критический разбор понятия «модернистский рассказ», проанализированы современные тенденции в его изучении и продемонстрированы исследовательские возможности, которые открывает его расширенная трактовка. Классическое понимание английского модернистского рассказа сформировалось под влиянием короткой прозы таких авторов, как В. Вулф, К. Мэнсфилд и Дж. Джойс, и к последним десятилетиям XX в. оно оформилось в импрессионистическую концепцию жанра. Согласно данной концепции предметом изображения в модернистском рассказе является раздробленное и субъективное восприятие мира человеком, которое определяет такие ключевые черты жанра, как незначительность фабулы, повышенное внимание автора к форме выражения, использование новаторских повествовательных техник и сосредоточенность на работе сознания. В первые десятилетия XXI в. импрессионистическое понимание модернистского рассказа и перенос его характеристик на современный рассказ в целом были подвергнуты критике. Одна из ведущих тенденций новейших исследований состоит в отказе от сведения сущности модернистского рассказа к подчеркнуто новаторским в формальном отношении текстам узкого круга канонических авторов и включении в поле зрения тех рассказов, в которых рефлексия о субъективности и сознании человека в условиях исторического перелома принимает менее радикальные формы. Краткий анализ особенностей поэтики наследующих повествовательной традиции рассказов М. Синклер позволяет показать продуктивность расширенного понимания модернистского рассказа.
Бесплатно
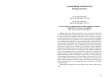
Англо-американская традиция изучения путевой прозы: к постановке проблемы
Статья научная
Цель настоящей статьи дать обзор текущего состояния и тенденций в исследованиях литературы путешествий в англоязычной академической традиции с позиций российских исследователей. Будучи весьма сложным и противоречивым по своей сути явлением, литература путешествий достаточно ред-ко становится предметом теоретических изысканий российских исследователей.В то же самое время англоязычная традиция может похвастаться целым рядом школ, направлений и подходов к изучению литературы путешествий, что является весьма нетипичным для российской традиции, пытающейся вписать произведение в рамки теоретической модели, а не конструировать теорию вокруг произведения. Таким образом, авторы дают обзор актуальных и ключевых тенденций в исследованиях литературы путешествий, доминирующих в зарубежных исследованиях жанра, но при этом не получающих достаточного освещения в российских исследованиях. Специфика проблемы и материала предопределила концепцию статьи, которую можно охарактеризовать как «краткое сравнительное введение в проблему». Такой подход позволил, с одной стороны, познакомить читателя с актуальными текстами и авторами, которые мы считаем хорошей отправной точной для дальнейшего самостоятельного научного поиска, а с другой– показать, как теории, преобладавшие в литературоведении второй половины ХХ в. отразились на формировании теории литературы путешествий. Характер рассмотренных в статье данных дал нам возможность сделать весьма интересное наблюдение, заключающееся в том, что в российских работах по литературе путешествий гендерный аспект данных произведений либо игнорируется, либо рассматривается достаточно однобоко и упрощенно.
Бесплатно
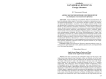
Англосаксонские короли в поэзии и прозе (на материале англосаксонской хроники)
Статья научная
Статья посвящена исследованию образов англосаксонских королей (на примере образа короля Этельстана), созданных в прозаическом тексте Англосаксонской Хроники и в тех поэтических вставках, которые, как знаменитая «Битва при Брунанбурге», включены в нее на правах анналов. Поэма о битве при Брунанбурге, включенная в Англосаксонскую Хронику, рассматривается как близкая к скальдическому панегирику тематически, стилистически и функционально. Делается попытка показать, что влиянием скальдической панегирической традиции обусловлено появление идеализирующего стиля в описаниях правителей в поэмах Англосаксонской Хро-ники. Опосредованно этот стиль влияет на таких средневековых историков, как Уильям Мальмсберийский и Генрих Хантингдонский, следующих ему в своих переводах англосаксонской поэмы о битве при Брунанбурге и в том прозаическом повествовании, в который они включены. Интерес к деяниям духовных и светских владык, характерный для создателей Англосаксонской Хроники, объясняется в статье не только условиями создания и распространения рукописей, но и целенаправленной деятельностью англосаксонских королей, оценивших значение поэзии как средства влияния на умы современников и потомков еще в Х в.
Бесплатно
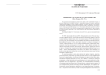
Анненкова Е. И. Гоголь и русское общество. СПб.: Росток, 2012. - 752 с
Рецензия
В рецензии рассматривается новая книга проф. Е.И. Анненковой «Гоголь и русское общество», в которой глубоко и взвешенно решаются многие проблемы творческой биографии Гоголя (главным образом, позднего периода) и его взаимоотношений с движением русской мысли середины XIX в. Отмечается, что актуальность этому исследованию придает и то, что основное внимание уделяется соотношению идей Гоголя и мыслителей консервативной направленности, роли которых в жизни русского общества до сих пор уделялось явно недостаточно внимания в нашей науке.
Бесплатно

Статья научная
В статье исследуется вопрос знакомства сербских читателей с жизнью и творчеством Гоголя, которое происходило в 1850-е гг. прежде всего посредством прессы. Важнейшую роль в этом сыграл Данило Медакович, выпускавший в Нови-Саде литературную газету «Седмица» («Еженедельник»). Особое внимание в статье уделено анонимному обозрению «Русская литература за прошедшие сто лет», опубликованному в газете Медаковича в 1855 г. Обнаружен прецедент-текст этого сочинения -доклад И.И. Давыдова «О значении Гоголя для русской словесности», превращенный им в научную статью для «Известий Императорской Академии наук». Проанализировано, что анонимный сербский критик (в статье выдвинута гипотеза, что это сам издатель, знавший русский язык) при компиляции опустил первую, теоретическую, часть статьи Давыдова, в которой ученый рассматривал проблему «первообраза» в литературе и его воплощения в произведениях Гоголя. Вместе с тем выводы сербского критика о характере комизма Гоголя, его отличии от русских сатириков XVIII в. и близости к юмору Чарльза Диккенса свидетельствуют о хорошем знакомстве рецензента как со статьей Давыдова, так и с произведениями Гоголя. Установлена связь между размышлениями критика о языке гоголевских сочинений, страдающих «барбаризмами» и «провинциализмами», и проходящей в это время реформой сербского литературного языка. Сделан вывод об усилении интереса в середине XIX в. сербских журналистов и читателей к русской словесности как более развитой национальной литературе с уже оформленным литературным языком.
Бесплатно
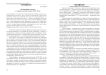
Антиномии романа: из истории немецкой поэтики XVIII-XIX вв
Статья научная
Сосуществование и соперничество противоположных воззрений на роман в немецкоязычной поэтике XVIII - XIX вв. может быть представлено в виде системы антиномий. Описаны пять антиномий этого жанра: 1) в романе преобладает «художественное» повествовательное начало - «научное» исследование психологии героев и каузальных связей; 2) роман представляет собой модификацию древнего эпоса - нечто принципиально новое, пришедшее на смену эпоса; 3) роман объективен - роман субъективен; 4) автор романа активно проявляет себя - автор скрыт; 5) герой - основной предмет романного повествования или всего лишь техническое средство повествования, его «нить» (В. Алексис).
Бесплатно

Статья научная
В статье на примере лирики В.Я. Брюсова и К.Д. Бальмонта рассматривается, как при сохранении внутренней меры жанра, старшие символисты трансформируют элегию. Выдвигается тезис о том, что основные изменения обнаруживаются на уровне хронотопа – линейного времени и природного цикла в традиционной элегии. В статье эта пара представлена категориями «время» и «вечность», каждая из которых соотносится с особым пространством. Понятие «время» у Брюсова принадлежит внешнему миру, а «вечность» – внутреннему миру воображения художника. У Бальмонта данная пара включена в сюжет об изгнании из Рая: лирический субъект теряет вечность небесного пространства при переходе к земному времени. Вечность обнаруживается и в мире природы, с которым стремится сблизиться субъект. Небеса у Бальмонта напоминают об идиллии, которая возникает в элегии как утраченный локус. Идиллическое присутствует и в нижнем мире в виде пространства усадьбы, которое возникает в воспоминаниях о детстве, что тоже помещено в контексте сюжета об утраченном Рае. У обоих поэтов в ранних поэтических книгах взаимоотношения «времени» и «вечности» характеризуются по большей части как антитетические. Однако в статье демонстрируется их переход в разряд антиномий позднее. Если сначала субъект выбирает вечность, отвергая время, то в дальнейшем противоречия уравниваются в его сознании. Поэты стремятся преодолеть ограничения (смертность, невозвратность прошлого), которые накладывает элегический хронотоп. Продуктивна возможность будущего сопоставления данных стратегий трансформации элегии с другими, возникающими у символистов.
Бесплатно
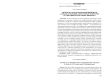
Статья научная
В статье отражена актуальная проблема современного литературоведения: исследование антисказки как карнавализованного жанра «серьезно-смеховой» литературы на примере анализа произведений «Иван да Марья» Высоцкого и «Сказки с несказочным концом» Рождественского. Выявляется, что цикл сказочных песен из кинофильма «Иван да Марья» - это продолжение традиции карнавального фольклора с его специфическим карнавализованным мироощущением, связанным с синкретизмом поэтических родов, музыкой и пляской. Ряд песен рассматриваются как вертепное представление в стихах, раскрывающее основное содержание антисказки. Персонажи произведения вносят праздничную атмосферу вольности и веселья, происходит карнавальное видение преисподней, развертывается фольклорный театр с ряжением, кукольными интермедиями. Элементы народного говора: просторечные метафоры, народные поверья, поговорки и др., являются способом изображения несерьезных ситуаций антисказки «Иван да Марья», где смех становится главным «героем» произведения. В исследовании утверждается, что каранавализованный жанр антисказки вобрал в себя поэтику фольклорных жанров лубка, райка и др. «Сказка с несказочным концом» Рождественского продолжает традиции фольклорного жанра лубка с его речевым оформлением сюжета в потешных картинах. Раешный стих антисказки Рождественского формируется на основе народных жанров, отличающихся веселой относительностью - небылицы, страшилки. В статье обосновывается, что «Сказка с несказочным концом» насыщена комическими ситуациями, которые помогают «фиксировать» «антирекорды» спортсмена, «антипатриотизм» музыканта, высмеять «антиразум» отставного генерала.
Бесплатно

Античная геопоэтика Петербурга в новейшей отечественной романистике
Статья научная
В статье рассматриваются примеры обращения к поэтике «петербургского текста» в новейшей отечественной романистике (2022–2024 гг.). Избранные тексты объединяет не только формальное место действия – Ленинград позднесоветской эпохи и современный Петербург, но и наличие устойчивых отсылок к античному мифу об Аиде, локализацией которого и предстает город. В произведениях Евгения Водолазкина («Чагин»), Веры Сороки («Питерские монстры»), Антона Секисова («Комната Вагинова») такие узнаваемые топонимы Петербурга, как Фонтанный дом, реки Нева и Фонтанка приобретают мифопоэтический статус преддверия Аида с его Стиксом и Летой, оказываются связанными с темами памяти и забвения, с проблемой сохранения культурного наследия (роман Анны Баснер «Парадокс Тесея»), решение которой в литературном Петербурге «петербургского текста» амбивалентно. В рассматриваемых романах реальная городская география воплощается в геопоэтическом комплексе «царства мертвых», символизирующего его миражные, мортальные черты, стремящегося поглотить и поработить персонажей. Во внутренних сюжетах используются детали и реминисценции античных мифов с образами погружения в Аид и возвращения из него – мифы о Персефоне и об Орфее, частично миф о возвращении Одиссея. Эти мифопоэтические мотивы привносят в осмысление «петербургского текста» в новейшей отечественной романистике идею преодоления смертного притяжения города посредством творчества, памяти и любви, раскрываемых в том числе и за счет привлечения и переосмысления античной мифопоэтической традиции.
Бесплатно
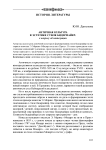
Античная культура в эстетике стиля бидермайер: к вопросу об интеграции
Статья научная
Автор исследует роль античной культуры в формировании стиля бидермайер на материале новеллы Э. Мерике «Моцарт на пути в Прагу». В статье проводится сопоставление концепций художника, представленных романтизмом и бидермайером. Автор приходит к заключению, что использование образов античной мифологии позволяет преодолеть антиномию духа и материи в эстетике стиля бидермайер.
Бесплатно

Античность в романе Булата Окуджавы «Путешествие дилетантов»
Статья научная
Предметом исследования являются функции античных мотивов (исторических, мифологических, литературных и др.) в романе «Путешествие дилетантов». В контексте споров об эзоповом языке анализируется поэтика масштабных аналогий, освещается универсальный смысл романного конфликта.
Бесплатно

Антропонимическая система «Вечеров на хуторе близ Диканьки» в английских и немецких переводах
Статья
Бесплатно
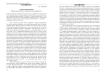
Апология критики. Отклик на книгу Ольги Седаковой «Апология разума»
Рецензия
Статья представляет собой отклик на книгу Ольги Седаковой «Апология разума». В ней предложен анализ глубоко укоренившихся в русской культуре клише, в частности, противопоставления разума и «сердца». Это противопоставление О. Седакова пытается преодолеть, опираясь на вершины мировой культуры - тексты Данте, Пушкина, Гете, Пастернака, а также некоторые высказывания С.С. Аверинцева.
Бесплатно
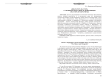
Аппаратура мастера: о сновидческом смысле композиции «Мастера и Маргариты»
Статья научная
В статье рассматривается оптический потенциал булгаковского сюжета, который реализуется и в предметном мире его произведений (оптические аппараты, атрибутированные героям повести «Роковые яйца» и пьес «Адам и Ева», «Блаженство», «Иван Васильевич»), и в способе организации повествования («Мастер и Маргарита»). Оптические аппараты булгаковских персонажей - аналоги писательской фантазии, работа которой соотносима с работой сновидения, описанной в работах З. Фрейда и П. Флоренского. Выявляя системные особенности композиции романа «Мастер и Маргарита», мы показываем, что вся реальность романа в том виде, в каком она открывается для затекстового читателя, является сновидческой. Сновидение - аналог творческого процесса, который является главным событием романа, в которое вовлечены и затекстовые двойники автора и читателя. Упомянутое в романе пятое измерение - измерение творческой фантазии, структурированное с помощью сновидческого кода. Изображенные сновидения - метатропы, удваивающие художественную структуру, тексты в тексте.
Бесплатно

Арлекинада в повести Д.Г. Лоуренса «Божья коровка»
Статья научная
Статья посвящена карнавальному прочтению повести Д.Г. Лоуренса «Божья коровка». Посредством выявления арлекинадной образности и исследования ее переплетения с античными сюжетами в тексте произведения, устанавливается роль карнавального контекста в отражении «лоуренсианского» мировидения, а именно размышлений писателя о последствиях Первой мировой войны и способах преодоления полученных на войне душевных ран. Автор статьи показывает, как Д.Г. Лоуренс, которого на протяжении жизни в равной степени вдохновляли и Италия с ее карнавалами и масочными представлениями, и психоанализ в лице К.Г. Юнга, создал полифоническую повесть, которая с одной стороны, композиционно и сюжетно подражает английским пантомимам, совмещая «божественное» с «фарсовым», а с другой - объединяет архетипы человеческой культуры и реализует диалог между философскими учениями и традициями. Детальный анализ образов героев демонстрирует их сходство с Арлекином, Коломбиной и Пьеро, а также позволяет обнаружить языковую игру в тексте повести и аллюзии на популярные в Англии XVIII-XIX века пантомимы «Божья Коровка, или Арлекин Лорд Дандриэри» (1795) и «Фурибонд, или Арлекин-негр» (1807). Образы арлекинады используются Лоуренсом как в качестве иллюстрации его собственной версии психоанализа, «Арлекинады бессознательного», так и в виде переработки идей Юнга и Ницше. Кроме того, обращение к арлекинаде позволяет писателю вывести сюжет повести во вневременное пространство карнавала, где метафорическое шествие «развенчанных богов» - главных героев - в «подземном мире» бессознательного позволяет им пройти через очищающий карнавальный огонь и возродиться к новой жизни. Арлекинада в повести - это и одно из ее измерений, и вариант исцеляющей психодрамы, и одно из отражений «лоуренсианской» модели взаимодействия микро- и макрокосма.
Бесплатно
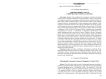
Арлекинадный гротеск в творчестве Сомерсета Моэма
Статья научная
Данная статья посвящена исследованию особенностей арлекинадного гротеска (приема совмещения эстетики комедии дель арте с трагическим или страшным контекстом описываемых событий) в прозе Сомерсета Моэма: романах «Маг» (1908), «Узорный покров» (1925) и рассказе «Р&O» (1926). Интерес Сомерсета Моэма к «дельартовской» эстетике доказывается на основании: 1) многократного упоминания писателем масок Пьеро, Коломбины, Панталоне, Арлекина и Пульчинеллы в ряде его произведений: романе «Луна и грош» (1919), сборнике рассказов «На китайской ширме» (1922), рассказах «Р&O» (1926) и «Четверо голландцев» (1928); 2) дружбы Сомерсета Моэма с драматургами, воспевшими «дельартовскую» эстетику - Л. Хаусманом, Х.Г. Баркером и К. Маккензи; 3) активной драматургической деятельности самого Сомерсета Моэма, заставшего расцвет эстетики комедии масок в Англии. «Дельартовские» корни ряда образов Моэма (Китти, Уолтера Фейна, Чарли Таунсенда, Оливера Хаддо) выявляются посредством сравнительного анализа, в качестве авторитетных театроведческих источников выступают работы ведущих зарубежных исследователей - Р. Эндрюса, Р. Хенке, Д. Рудлина, П.Л. Дюшартра, М. Санда, М. Грина и Д. Свона. Автор статьи также устанавливает сюжетные параллели между пьесой «Круг» (1921) и романом «Узорный покров» и обозначает проблему влияния Гюстава Флобера, Артура Шницлера и эстетики романтизма на С. Моэма. Проведенный анализ позволяет охарактеризовать арлекинадный гротеск и сформулировать его функции в творчестве Сомерсета Моэма.
Бесплатно

Архаические мотивы ойратского эпоса «Егиль Мерген»
Статья научная
В статье рассматриваются архаические мотивы в ойратской эпопее «Егиль Мерген». Героическая эпопея «Егиль Мерген» записана Б.Я. Владимирцовым от дербетского туульчи, который был выходцем из простого народа. Имя сказителя не указано, однако ученый отмечает, что туульчи почитался в округе профессиональным рапсодом. Материалом исследования являются опубликованные Б.Я. Владимирцовым тексты героической эпопеи «Егиль Мерген» на ойратском языке и в переводе на русский язык. Герой эпоса Егиль Мерген проявляет себя как чудеснорожденный богатырь, наделенный комплексом богатырских свойств, таких как храбрость, мужество, сила, ловкость, отвага и др. В героической борьбе с черными мангасами Егиль Мерген вместе с побратимом уничтожают врагов, очищают родную землю от чудовищ. Изучение архаических мотивов в ойратском эпосе «Егиль Мерген» показало, что в мотиве первотворения единичные «первообразы» - море Бум, гора Сумеру, Молочное море, седой аргали, луч желтого солнца, жители подсолнечного мира, буддийская вера, прекрасная кальпа - занимают центральное место в эпической картине мира и служат мифологическим фоном рождения главного героя эпопеи Егиль Мергена. Мотив чудесного рождения обнаруживает архаичные элементы (ребенок рождается с алмазным черным мечом во рту, с запекшимся сгустком крови в руке), являющиеся приметой его героического будущего. К чудесным свойствам богатыря также относится его магическая неуязвимость, которая встречается и у героя узбекской, алтайской, киргизской эпических традиций, что указывает на культурно историческое единство эпосов тюрко монгольских народов. Мотив предназначенного герою коня представляет его чудесного скакуна, с помощью которого богатырь преодолевает огромные расстояния и препятствия в пути, находит свою суженую, женится и возвращается в родные кочевья.
Бесплатно
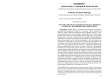
Архаические представления о ветре в калмыцком фольклоре: междисциплинарный подход
Статья научная
Данная работа посвящена исследованию архаических представлений калмыцкого народа и его предков о ветре, являющихся одним из главных фрагментов картины мира во фрейме «погода», и конструированию смыслов и коннотаций, составляющих этот концепт. Актуальным представляется реконструкция данного фрагмента в архаичной картине мира, поскольку эти представления отражают древние верования калмыков и их предков. Материалом исследования выступили разножанровые фольклорные тексты, как опубликованные, так и не изданные на калмыцком и в переводе на русский язык. В результате проведенного исследования были сделаны следующие выводы. Внутренняя форма слова салькн ‘ветер’ отражает семантику свободы, что присуще природе ветра. Важными характеристиками слова выступают влажность, температура, интенсивность. В структуре данного концепта, одного из фрагментов архаичной картины мира, наличествуют компоненты научной картины мира. Данное природное явление в некоторых мифах и сказочных текстах предстает как живое существо, наделяется действиями человека, но не эмоциями. Ветер в фольклорных произведениях выступает как положительная, так и разрушительная сила, причем во многих текстах устного народного творчества сохранилась эта амбивалентная структура концепта. В пространственной модели устройства мира ветер занимает не срединное положение, а происходит из Нижнего мира. С течением времени ветер стал восприниматься не только как сила, стоящая на службе как положительных, так и отрицательных героев, но и как самостоятельная стихия, способная дарить пропитание и, следовательно, жизнь.
Бесплатно

Статья научная
Статья посвящена исследованию архетипов сезонности в представлениях калмыков на материале малых жанров фольклора. Материалом исследования соответственно являются опубликованные и неопубликованные малые жанры фольклора калмыцкого народа. Сплошной выборкой был извлечен материал исследования, где упоминаются номинации, обозначающие сезонность. В работе применялись общенаучные методы, а также метод реконструкции, кроме того, использовался междисциплинарный подход. В результате исследования мы приходим к следующим выводам. В малых жанрах калмыцкого фольклора весьма четко проявляется наслоение различных картин мира о временах года, его полистадиальность. Две лексемы в монгольских языках имеют хорошую алтайскую этимологию (‘зима’ и ‘лето’), две другие лексемы (‘весна’ и ‘осень’) обнаруживаются только в монгольских языках. В малых жанрах калмыцкого фольклора обнаруживаются лексические рудименты противопоставления двух полугодий: летнего (включающего весну) и зимнего (включающего осень). Лексические единицы отражают наслоения разных периодов о начале года: весна, осень, зима в пословицах маркируются через параллель с утром. Имеется также представление, что весна - начало года. Видимо, это самое древнее понимание начала года, которое сменилось более поздними взглядами, обусловлеными добуддийским и буддийским влиянием, хотя можно трактовать эту пословицу иначе: и как результат заимствования предками монголов тюркской системы времяисчисления, и как одно из доказательств существования тюрко-монгольской общности. Малые жанры калмыцкого фольклора весьма четко отражают биологические ритмы, которые связываются с приходом определенного времени года. Среди них можно выделить миграции птиц, циклы рождения, кормления домашних животных. Через устойчивые ассоциации с временами года выстраивается аксиологическая картина мира, присущая калмыцкому народу: параллели с богатством, трудом связаны с летом и зимой; с изобилием - осень, с домом - весна. Проводится параллель осеннего дождя с болтливостью старшего поколения.
Бесплатно