Статьи журнала - Новый филологический вестник
Все статьи: 1787
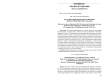
Рецензия
В рецензии рассматривается недавно вышедшая монография Н.Н. Кириленко «Классический детектив как жанр криминальной литературы. Инвариант и генезис». Подчеркивается новаторский характер авторского подхода, в рамках которого к жанру классического детектива с успехом применяется концепция жанра как трехмерной модели (М.М. Бахтин). Адаптируя эту концепцию к специфике криминальной литературы, автор монографии исследует классический детектив как особый тип речевого целого и героя, действующего определенным образом в заданных пространственно-временных координатах, а также выделяет понятие нормы и возможности ее восстановления, соотносимое с бахтинской категорией эстетического завершения. Предпринятый Н.Н. Кириленко на обширном материале комплексный анализ классического детектива в типологическом и генетическом аспектах задает новый вектор для исследования криминальной литературы в целом и ее отдельных жанров.
Бесплатно

Классический и фантастический детектив
Статья научная
В статье сопоставляются два рассказа («Второе пятно» К. Дойла и «Чертежи субмарины» А. Кристи), относящиеся к классическому детективу, и рассказ А. Азимова «Ночь, которая умирает», который является фантастическим детективом. Формулируются сходство и различия этих разновидностей детективного жанра.
Бесплатно
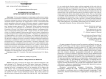
Клопшток в России: почитаемый нечитаемый поэт
Статья научная
В статье рассматривается литературная судьба русских переводов поэтического наследия Ф.Г. Клопштока, великого немецкого поэта XVIII века. Клопшток оказывается одним из самых известных и авторитетных авторов, произведения которого практически не переводились в России. Сопоставительный анализ переводов религиозной эпопеи «Мессиада» приводит к парадоксальному выводу: наиболее известным оказывается вольный перевод отрывка из «Мессиады», автором которого является В.А. Жуковский. Менее удачные переложения А.М. Кутузова и С.И. Писарева не способствуют увеличению круга читателей Клопштока в России. Они остаются литературным фактом, не вызвавшим резонанса в литературной жизни конца XVIII - начала XIX века. Не менее примечательно, что с ранней лирикой Клопштока русский читатель может познакомиться только благодаря нотным изданиям конца 1970-х гг. Переводы сентиментальных од обнаруживаются под нотами песен Шуберта, они приведены параллельно с оригинальным текстом и никогда не публиковались как отдельные произведения. Для русской литературы Клопшток становится мифической фигурой священного песнопевца и славнейшего немецкого писателя, сведения о котором стереотипно воспроизводятся в литературных энциклопедиях и историях литературы. Такое восприятие связано с несовершенством или полным отсутствием переводов подавляющего большинства произведений немецкого поэта, а также с недостаточным количеством настоящих, вдумчивых аналитических разборов его трудов. Исследования его поэзии и свежие переводы, появляющиеся с конца XX века, должны наполнить жизнью почетные эпитеты, которые Фридрих Готлиб Клопшток, выдающийся поэт-сентименталист, заслужил по праву.
Бесплатно
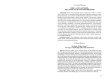
Книга "Отец Арсений" тип авторства и рама произведения
Статья научная
Книга «Отец Арсений» ходила в самиздате с 1970-х гг., напечатана в 1990-х. Как и в печатной русской прозе конца советского периода и в литературе Зарубежья, здесь описаны «необоснованные репрессии» и ГУЛАГ, тяготы Великой отечественной войны, трудная жизнь деревни. Эксплицитно ставятся внелитературные задачи: свидетельствовать об истине, делиться опытом преодоления бед, нести духовное просветление. Это типологически сближает современную литературу со средневековой. В статье анализируется рамочный текст книги «Отец Арсений», связанный с поэтикой надындивидуального, ‘коллективного' авторства. Сообщения принадлежат конкретным людям, а составитель-книжник создал раму, композицию и стилевой рисунок, подобно тому как это сделал А. Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ». Специфика авторства отличает подобную книгу от книги нового времени. Для лиц, причастных к созданию текста «Отца Арсения», проблема индивидуального авторства неактуальна. Пишущий, подобно средневековому книжнику, сосредоточен на решении важных задач, так, в «Отце Арсении» среди прочего показаны гонения на веру и подвиг новомучеников и исповедников ХХ в.
Бесплатно

Книга И. А. Бунина «Освобождение Толстого». К проблеме религиозного миросозерцания Бунина
Статья
Бесплатно

Книга М. М. Бахтина о Рабле в контексте идей школы Фосслера (к постановке проблемы)
Статья
Бесплатно
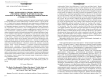
Статья научная
Статья посвящена выявлению традиций литературной исповеди в книге архимандрита Тихона (Шевкунова) «“Несвятые святые” и другие рассказы». С опорой на достижения современной науки определяются содержательные и художественные особенности исповедального жанра, к которым следует отнести правдивое раскрытие личностью собственного духовного мира, самопознание, стремление к диалогичности, отказ от биографической последовательности и перенос акцентов в плоскость духовно-метафизического поиска, включение в текст молитвенного, проповеднического, агиографического дискурса и т.д. Основное внимание уделяется структуре произведения, в которой наблюдается переход от линейного повествования к нелинейному, а также выделяется ряд циклов, с помощью которых наиболее полно проявляется исповедальное начало. Цикл судьбы связан с жизнью носителей уникального духовного-религиозного опыта, среди которых важное место занимают насельники Псково-Печерского монастыря. Раскрытие данных персонажей происходит с помощью агиографических элементов (исповедничество, мотив «встреча с чудом»), контраста (при сопоставлении богослужебно-обрядового и бытового контекстов), ситуации «последняя встреча». Цикл события раскрывается с помощью сюжетно-композиционной цепочки случай - апелляция - вывод и направлен на разрушение стереотипных представлений о невозможности преодоления законов земной реальности. При рассмотрении обоих циклов в единстве формулируется вывод о возникновении в сознании рассказчика идеи тесной взаимосвязи горнего и дольнего, проявляющейся в повседневности человеческого существования. Подобная трансформация мировоззрения повествователя требует диалогичности, ориентацию на адресата, что позволяет отметить присутствие традиций жанра литературной исповеди в книге «Несвятые святые».
Бесплатно
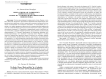
Книга стихов А.П. Ладинского «Черное и голубое»: «уроки» Н.С. Гумилева и окказиональная мифопоэтика
Статья научная
В статье рассматривается первая книга стихов «Черное и голубое» (1930) А.П. Ладинского, представителя парижской ветви первой волны литературы русского зарубежья, в аспекте творческого освоения гумилевской поэтики. Анализ стихотворений поэта-эмигранта показывает, что наследование Н.С. Гумилеву в его лирике проявляется прежде всего в концептуализации мифологемы пути как основы бытийного самоосуществления лирического субъекта. Движение поэтического сознания А.П. Ладинского к конвергенции земного и небесного начал соотносимо с поисками мировой гармонии, определяющими художественное миропонимание Н.С. Гумилева. Ориентируясь на гумилевские принципы субъектной репрезентации, А.П. Ладинский в структуре книги «Черное и голубое» использует широкий ряд лирических масок поэтического «я» (адмирал, европейский путешественник, флорентийские беглецы, крестоносцы, масоны-каменщики, аргонавты и т.п.), актуализирующих определенные историко-культурные коды и характеризующихся общим стремлением преодолеть разрыв между материальным и духовным аспектами бытия. Делается вывод, что что «уроки» Н.С. Гумилева, связанные одновременно и с акмеистическим вниманием к «посюсторонней» реальности, и с неоромантической жаждой постичь небесно-потусторонней мир, оказываются одним из ключевых факторов формирования окказиональной мифопоэтики в лирике А.П. Ладинского. При этом художественная концепция мира в «Черном и голубом» принципиально отличается от гумилевской, так как в ней на первый план выходит не столько волевое «я» воина-путешественника, сколько онтологически уязвимая личность страдальца-изгнанника. Поэтический миф А.П. Ладинского, во многом вырастающий из гумилевской концепции универсума, постулирует предельную жажду единения микрокосма и макрокосма и трагичное осознание невозможности преодолеть их антиномичность.
Бесплатно
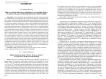
Книга стихов Михаила Айзенберга "Скажешь зима": на подступах к герменевтическому прочтению
Статья научная
Статья посвящена изучению феномена книги стихов на материале новейшей русской литературы. За основу взят сборник М. Айзенберга «Скажешь зима», отмеченный критикой (Большая премия «Московский счет»-2017) и являющийся по-своему репрезентативным для современной русскоязычной лирики. Используя принцип «медленного чтения» (close reading), автор подробно рассматривает первые два стихотворения книги, обнаруживая в них формальные и смысловые связи в контексте составного целого. В частности, детально анализируются мотивы зимы и земли и высказывается гипотеза об их особой значимости в художественном единстве книги. Несмотря на совпадение образов и мотивов в первых двух текстах, речи об общем, сквозном сюжете здесь не идет. Если под двумя диаметральными полюсами книги стихов понимать максимальную близость к поэме (наличие сюжета, постоянных героев) и неавторскому сборнику (без художественного замысла), то «Скажешь зима» находится посередине: едва ли можно говорить о тождественности субъектов анализируемых произведений, а их центральные образы, словесно идентичные, выполняют различные функции. Однако данное несовпадение оказывается продуктивным, расширяя контекст для интерпретации каждого стихотворения, образуя особый сюжет из жизни слов, меняющих по мере прочтения свои значения. В заключение статьи намечается перспектива дальнейшего исследования и приводится список стихотворений, репрезентативных с точки зрения указанных мотивов.
Бесплатно
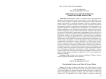
Книгоиздательские практики как объект истории литературы
Статья научная
Возникновение в 1980-х гг. истории чтения и предложенный ею пересмотр методологических основ изучения текста с учетом функций его носителя ставит историков литературы перед необходимостью заново определить предмет своей науки и ее основные категории, в частности, авторства и произведения. Между подходами истории чтения и истории литературы наблюдается противоречие, связанное с оппозицией «платонического» (не соотносимого с материальной формой) и «прагматического» (опирающегося на особенности этой формы) понимания текста. «Прагматический» анализ, актуальный для эпохи рукописной литературы и ранних этапов книгопечатания, позволяет выявить функции издателей, печатников и корректоров в формировании текста книги, роль ее формальных элементов в рецепции произведения различными читательскими сообществами. Однако он не всегда применим к позднему Новому и новейшему времени, когда литература формируется как особый социокультурный институт. Необходимость новой парадигмы в историко-литературных исследованиях несомненна, однако, отказавшись от понятия произведения, трансцендентного своим материальным воплощениям, история литературы, не только рискует раствориться в истории культуры, но и оказывается перед угрозой антиисторизма. Выделение «идеального», неизменного произведения из множества его книжных и рукописных ипостасей - неотъемлемая часть самого института литературы, одна из главных предпосылок авторского самосознания и понятия авторской собственности. Настаивая на приоритете «прагматики» в ущерб «платонизму», теория и история чтения ставит под сомнение историческое своеобразие той модели литературы, которая начала складываться на рубеже XV-XVI вв. под влиянием изобретения Гутенберга.
Бесплатно

Книжная топика у Кантемира и Пушкина
Статья научная
В статье предлагается подход к творчеству А.Д. Кантемира как культурного фона, «литературного бессознательного» русской поэзии. Кантемир привил русской поэзии многие классические сюжеты и мотивы - в частности, создал богатую книжную топику: практически все книжные мотивы, введенные в русскую литературу Кантемиром, продолжают жить в русской литературе. В статье рассматриваются основные книжные мотивы, связанные с линией Книга-Автор-Книгопродавец-Читатель, и прослеживается трансформация этих мотивов в творчестве А.С. Пушкина.
Бесплатно
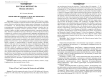
Князь мира и карнавал у Ф.М. Достоевского и М.М. Бахтина
Статья научная
В статье сопоставляются представления М.М. Бахтина о карнавале с тем, что он называет «открытием личности» Ф.М. Достоевским. Оппозиция между субъектом и объектом нашего сознания, между сознающим «я» и объектом его внимания - «я», непосредственно действующим (мыслящим, чувствующим) во внешнем мире («я, ощущающим боль в пальце») приводит к диалогу двух «я», возникновению и эволюции «личного двуголосого слова». Эта эволюция рассмотрена в работе на фоне истории карнавалоподобных «праздников перехода» (И.Л. Попова) в европейской культуре. Языческие сезонные празднества (когда сознающее «я» считалось чем-то полуживотным), карнавалы средневековья (когда голос сознающего «я» ассоциировался с голосом совести) и карнавальная культура Нового времени (когда сознание стало определяющей, высшей частью автономной человеческой личности). Показано, что «праздник перехода» был призван упорядочить «диалогическое отношение к себе самому» (Бахтин) в исторических формах: безличностного экстаза, примирения перед великопостным покаянием, борьбы «лидеров» и «мировоззрений» в смеховой культуре начиная с Возрождения. В этой связи могут быть понятны споры по интерпретации образа князя Мышкина как Христа и как пародии на Антихриста. Главный герой «Идиота» примиряет людей друг с другом и с самими собой в духе средневекового карнавала, но не становится «карнавальным королем» в смысле Нового времени, чего от него ожидают персонажи и читатели романа. В этом его уникальность по сравнению с предыдущими положительно-прекрасными героями как мировой литературы (Дон Кихот, мистер Пиквик), так и самого Достоевского (полковник Ростанев). Чтобы показать уникальность Бахтина в персоналистко-диалогическом направлении европейской мысли XX в., за основу взяты отечественные представления об идеальной личности, связанные с переосмыслением Серебряного века в первые советские годы.
Бесплатно

Ковыль в картине мира современных калмыцких поэтов
Статья научная
В картине мира современных калмыцких поэтов ковыль – один из фитосимволов родного края, степи, верований, культурного кода. Несмотря на то, что в своей частотности на страницах поэтических книг он уступает основному фитониму «полынь», ковыль в степном пейзаже играет немаловажную роль. Он нашел отражение в растительном мира эпоса «Джангар»; в народных сказках стебель ковыля становится одной из мишеней богатырского состязания в стрельбе, пучок ковыля как затычка преграждает путь нечистой силе. Образ ковыля представлен в разные времена года, в разном возрасте, но как неизменный флористический знак: «цаһан ѳвсн» («белая трава»). Общая панорама степи в калмыцкой лирике включает ковыль во всех его проявлениях: внешний вид (зеленый – белый), динамика (качается, колышется, качается, бежит) или статика (спит), акустика, связанная с ветром (шум, шепот, песня). Ассоциации ковыльных волн с морскими, с серебром, с орнаментом «дольган зег» актуализируют мотивы простора, красоты, свободы Сухие стебли ковыля используются в ритуале продления жизни «нас авх» во время национального праздника Зул, поэтому у калмыцких поэтов нет коннотаций смерти, конца жизни в описании ковыля. С ковылем доминирует мотив памяти, прежде всего, родной земли, реже в историческом ракурсе. Фитопортрет растения изображен в двух стихотворениях Михаила Хонинова «Хальмгин цаһан толһата ѳвсд» («Калмыцкие ковыли», 1974) и Эрдни Эльдышева «Цаһан ѳвснә дун» («Песня ковыля», 2007). «Национальный пейзаж» в тексте М. Хонинова опирается на ряд этнографических деталей. В стихах других калмыцких поэтов ковыль присутствует неравнозначно: как составная часть степного ландшафта, как участник и свидетель событий в жизни лирического субъекта, как средство в ритуале продления жизни, как букет для свидания. В поэтике названий таких стихотворений не всегда указано название растения, как у М. Хонинова и Э. Эльдышева. Ср. «Тег болн теңгс» («Степь и море») А. Тачиева, «Хар һазр»» («Черные земли») Т. Бембеева. Ольфакторный фактор не задействован в поэтике ковыля, поскольку он не пахнет, но в то же время в текстах отсутствует его осязательный аспект, кроме сухости. Несколько поэтических книг М. Хонинова и Э. Эльдышева в русском переводе названы в честь ковыля («Ковыль», «Серебрится ковыль», «Песня ковыля»). Не все имеющиеся русские переводы стихотворений калмыцких поэтов о ковыле соответствуют форме и содержанию, опускаются ключевые коды и символы, значимые этнические детали быта и культуры, верований.
Бесплатно
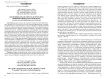
Статья научная
В статье в рамках оригинальной теории когнитивно-прагматических программ (КПП) исследуется система самоидентификационных когнитивно-прагматических установок (КПУ) в поэзии И. Бродского. Непосредственной целью статьи является выведение на новый уровень научной дескрипции опорных «автопсихологических» образов, напрямую связанных с ведущими установками творческой личности. Творчество Бродского характеризуется цельностью КПП логоцентрической синтетической языковой личностью (СЯЛ) поэта, масштабом и философской природой его дара, быстротой поэтического развития и глобальностью изначально поставленных задач. Заимствованные из арсенала культуры на раннем, «элегическом» этапе традиционные субъектные модели (лирические маски) романтико-модернистского плана, варьирующие идеи отчуждения, скепсиса, суровости к себе и миру, противостояния, маргинализма, изгойства, странничества, безнадежности, избранности и т.п., трансформируются в обобщения определенных лирических мотивов. Сквозной мотив «чем хуже - тем лучше» (вариация романтико-модернистского избранничества) постепенно придает лирическому субъекту своеобразный оптимизм; происходит «переселение» безнадежно-смертного из мира утрат и зла в пустоту посмертия, памяти, пути, поэзии. Возникающие инкарнации лирического героя (ИЛГ) обозначают прежде всего особенности человеческого удела, поэтому ранние ИЛГ не исчезают, но доводятся до афористичных формул. В зрелом творчестве Бродского ИЛГ - это условно персонифицированные мотивы, обозначающие неизбежную участь человека-героя-поэта.
Бесплатно
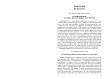
Колодец и венок: поэтика дискурсивного бессмертия
Статья научная
В статье анализируется воронежское стихотворение О.Э. Мандельштама «Не мучнистой бабочкою белой.» (НМБ). В отличие от интертекстуальных и культурно-ориентированных трактовок, текст рассматривается в мета-поэтическом плане - как реализация «орудийной метаморфозы», концептуально разработанной в «Разговоре о Данте». НМБ понимается как литературная адаптация причети - как самосознающий и саморезервирующий голос. Имплозивные и щелчковые артикуляции, доминирующие в тексте, символизируют смычку голоса с непоправимым онемением умершего. В то же время i/u-модуляция как работа фонологического «различения» локализует говорящего в пространстве языка. Похоронный обряд, изображенный в стихотворении, трактуется как «орудийный приказ» сохрани мою речь навсегда, редуцирующий звучащее слово к немому знаку. Волновая процессуальность беззвучного шествия отражает фонетический метаморфизм поэтической речи внутри самой поэтической речи. НМБ примыкает к советским концепциям бессмертия, подчеркивая их главное качество - телесность. Артикуляционная работа говорящего порождает фонологическое пространство языка и сохраняет себя в этом пространстве. Речевая мимика текста воспроизводит фоносемантические маркеры причети, а семиотическая трансформация поэтического дискурса становится эквивалентной жесту бессмертия.
Бесплатно
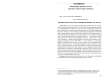
Колыбельная песня в калмыцкой лирике XX-XXI вв.
Статья научная
В статье рассмотрена литературная колыбельная песня, адресованная детям калмыцкими поэтами XX-XXI вв., в аспекте фольклорной традиции и ее трансформации. Колыбельная песня калмыцких литераторов не была объектом и предметом исследования, не издана и антология. В научный оборот нами введено 15 текстов 11 поэтов. Выявлена взаимосвязь литературной колыбельной песни с фольклорной в плане сюжетной модели, фабулы сна, мотивного ряда, системы персонажей, композиции, структуры, образов и стиля. Поэтика заглавия многих стихотворений проецирует жанровый архетип - «Колыбельная песня» («Саатулын дун» / «Ɵлгǝн дун»), фокусирует адресата - «Нилх үрнд» / «Ɵлгǝн дун» («Младенцу»). Влияние эпохи проявилось в политическом контексте литературных колыбельных песен 1930-1940-х гг., отчасти 1960-х гг., с советскими мифами о Большой семье, архетипами отца, матери, героя. Эволюция данного жанра от общественного к частному транслировала идею благополучного будущего детей в родной стране, служение которой было основой становления гражданина-патриота. Мир людей и мир природы в текстах выражают национальное мировоззрение и верования. Литературная колыбельная песня включала также элементы йоряла-благопожелания, заговора, охранительной магии, считалки, сохраняла традицию калмыцкой версификации. Русский перевод некоторых колыбельных песен калмыцких поэтов в той или иной степени соответствовал оригиналу, часть текстов положена на музыку.
Бесплатно
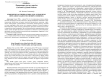
Коми женская лирика конца XX в.: к проблеме интеллектуальности и импрессионизма
Статья научная
Конец 1980-х - начало 90-х гг. стал переходным этапом в развитии коми литературы и поэзии в частности: авторы подвергают сомнениям и переосмыслению ценностные установки писателей предыдущего поколения, «предлагая» новые формы художественного осмысления действительности. Одними из таких новаторов в коми поэзии этого периода становятся Галина Бутырева и Нина Обрезкова, лирика которых ознаменовала зарождение новой волны женского творчества в коми литературе. При глубоко различном мироощущении поэтесс лирику данных авторов объединяют эксперименты в области поэтической формы, насыщение текстов бытийно-интеллектуальным содержанием, обращение к эстетике и поэтике импрессионизма.
Бесплатно

Коммуникативная стратегия «вестничества» в прозе Чингиза Айтматова
Статья научная
писателя Чингиза Айтматова к социалистическому реализму.
Бесплатно

Статья научная
В статье анализируется коммуникативная организация двух стихотворных текстов Г. Айги, представляющих собой вариации на одну тему: отрывок из «поэмы о Волькере» и стихотворение «Поезда» в переводе на русский язык Б. Ахмадулиной. Обосновывается, что реализуемая коммуникативная стратегия поэта в данных текстах определяется, как у поэтов-шестидесятников, диалогической интенцией, направленной на создание доверительных отношений с читателем-собеседником. Проведенный анализ показал, что в стихотворении «Поезда», построенном по принципу «открытого произведения», проектируется коммуникация с читателем с точки зрения рецепции волькеровского, пушкинского и блоковского кодов, встроенных в художественную структуру текста. Выявляется, что разворачивание по-волькеровски системы поэтических образов в этом тексте и особенности его ритмики соответствуют общим тенденциям в русской советской поэзии 1950–1960-х гг. В стихотворении «Из поэмы о Волькере» нетрадиционный синтаксис, гетероморфная стиховая форма, строфические и смысловые паузы, замедляющие темп речи и акцентирующие внимание реципиента на важнейших компонентах тематической композиции текста, интерпретируются автором статьи в качестве структурных составляющих коммуникативной стратегии поэта по выстраиванию диалога с читателем о проблемах существования человека в современном мире. Эксперименты с формой в отрывке «Из поэмы о Волькере» рассматриваются в аспекте поиска поэтом нового языка художественного общения с целью актуализации сотворческой активности воспринимающего сознания.
Бесплатно


