Статьи журнала - Новый филологический вестник
Все статьи: 1787

Коммуникативные стратегии «Я»-нарратива (на материале произведений современной русской литературы)
Статья
Бесплатно
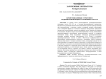
Коммуникативные стратегии в средневерхненемецких заговорных текстах
Статья научная
В данной статье рассматриваются средневерхненемецкие заговорные тексты XIV-XV вв. с позиции функциональной лингвистики. Предметом исследования являются коммуникативные стратегии субъекта заговора при взаимодействии с высшими силами, поддержка которых обеспечивает успех заговорной формулы. В качестве материала использованы практически неизвестные отечественному читателю заговорные тексты Германии из собрания В. Хольцманн. В работу вошло семь комментированных текстов, позволяющих продемонстрировать многообразие коммуникативных моделей в литературе заговорного жанра. Автор выстраивает типологию средневерхненемецких заговоров, развивая методику, предложенную К.М. Хэзеле в отношении древневерхненемецких текстов в работе «Магическая перформативность». Многообразие коммуникативных стратегий в заговорных текстах указанного периода автор сводит к четырем основным типам, иллюстрируя каждый из них рядом примеров из названного корпуса в оригинале и в собственном переводе на русский язык. Актуальность исследования продиктована общим ростом интереса в научном сообществе к литературе малых жанров при слабой разработанности заявленной проблемы в отечественной науке. Автор надеется, что результаты его исследования помогут устранить этот пробел и наметят дальнейшие пути решения. Полученные выводы будут интересны специалистам в области истории немецкого языка и литературы, сравнительного литературоведения, а также фольклористики и истории Средневековья.
Бесплатно
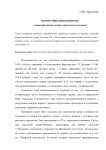
Коммуникация вопреки: о трансформации жанра лирического послания
Статья
Статья посвящена проблеме трансформации лирических жанров на примере смещения жанра послания во второй половине ХХ в. На материале посланий разных авторов делается вывод о том, что жанровая доминанта современных посланий - коммуникация вопреки невозможности.
Бесплатно
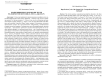
Композиционное своеобразие песен малодербетовского цикла эпоса "Джангар"
Статья научная
В статье рассматривается композиционное своеобразие трех песен Малодербетовского цикла эпоса «Джангар»: 1. «Песнь о том, как богдо Джангар мангаса Уту Цагана покорил»; 2. «Песнь о том, как богдо Джангар хана мангасов Кюрюл Эрдени покорил»; 3. «Песнь о том, как прославленный Улан Шовшур хана мангасов Свирепого Шара Гюргю покорил». Композиция эпического произведения строится как последовательное повествование, способствующее созданию целостной картины. Основная идея песен Малодербетовской трилогии «Джангара» - прославление героического подвига богатырей Бумбы во имя защиты родной державы, а в заключительной поэме - еще и освобождения угнанного народа от иноземного захватчика Шара Гюргю-хана. Одной из особенностей Малодербетовского цикла является присутствие в нем важной композиционной части - пролога. Отправной точкой к завязке действия является пир во дворце хана Джангара. Сцена пира, выполняя определенную композиционную роль, выделяет героя, которому предстоит отправиться в боевой поход. Конфликтная ситуация, возникшая в завязке песни, вызывает действие. Прежде чем герои вступят в открытый конфликт, необходимо решение одной из противоборствующих сторон. В решающий момент богатыри проявляют храбрость и мужество в борьбе с многократно превосходящим силой и численностью врагом. Кульминацией песен является поединок богатырей. Сцены битвы героя и джангаровых богатырей с могучим, уверенным в своем превосходстве противником изображаются джангарчи яркими художественно-изобразительными средствами, создавая панорамную картину сражения, что, в свою очередь, всецело завладевает вниманием слушателей. Победа, добытая ценой нечеловеческих усилий, воспринимается как победа духа - морального превосходства хана Джангара и богатырей Бумбы над храбростью и силой захватчика. Несмотря на сюжетную самостоятельность, песни Малодербетовского цикла взаимосвязаны между собой и располагаются в строго определенном порядке. Единство песен цикла поддерживается таким композиционным элементом, как развернутый, обширный пролог - повторяющаяся в каждой поэме в почти неизменном виде вступительная часть песни. Отличительной чертой цикла также является внутреннее сюжетно-структурное единство песен, последовательность которых определяется взаимосвязанным сюжетом.
Бесплатно

Статья научная
Вопросы социализации лиц с нарушением зрительного восприятия при увеличении объема распространяемой сегодня визуальной информации не теряют своей актуальности. В связи с этим значимым является изучение специфики текстов аудиодескрипции и тифлокомментариев к различным объектам описания. Настоящая статья посвящена анализу композиционных особенностей тифлокомментариев к произведениям живописи, а также специфики тематического распределения лексики в их составе. Материалом для исследования послужили тексты тифлокомментариев, составленные пользователями сети Интернет для лиц с нарушениями зрительного восприятия, размещенные на специализированном интернет-ресурсе «Опиши-мне.рф». В ходе исследования в анализируемых текстах была установлена реализация 4 содержательных блоков, выделяемых в соответствии с типами представленной в них информации: энциклопедической, описательной, интерпретативной, субъективно-перцептивной, где ядерным компонентом выступает блок описательной информации, а актуализация остальных блоков факультативна. Последовательность расположения данных блоков в текстах аудиодескрипций варьируется. Удельный вес блока описательной информации в текстах тифлокомментариев существенно варьируется (в более 50% случаев он содержит от 100 до 200 слов), что отчасти обусловлено разной степенью сложности сюжета картины. Изучено лексическое наполнение данного блока, установлены 14 лексико-семантических групп, указывающих на понятия и смыслы, которые находятся в фокусе внимания автора тифлокомментария при дескрипции произведений живописи.
Бесплатно
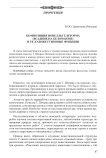
Композиция новеллы Т. Шторма «Всадник на белом коне» и ее художественные функции
Статья научная
В статье рассматривается вопрос о художественных функциях многослойной композиции новеллы Т. Шторма «Всадник на белом коне». Исследуются способы репрезентации в новелле разных точек зрения: жителей деревни, с одной стороны, и главного рассказчика - с другой. В ходе исследования внутри новеллы выявляются два доминирующих жанра: предание и легенда, границы между которыми оказываются зыбкими.
Бесплатно

Конец независимой Каппадокии: римская аннексия как усвоение уроков прошлого
Статья научная
В статье рассматривается проблема аннексии Римом царства Каппадокия в правление императора Тиберия. Последний царь Каппадокии Архелай I на протяжении полувека оставался верным союзником Рима, поэтому решение ликвидировать его царство может показаться неожиданным. Античные авторы объясняли это личной неприязнью императора к Архелаю, но одного этого было мало для такого решения. В статье сделана попытка показать, что главными мотивами были стратегические. Каппадокия занимала важное место в системе обороны римских провинций, она контролировала переправы через Евфрат и путь в Армению, которая в то время была местом наиболее острого столкновения интересов Рима и Парфии. Опыт прошлого учил, что отсутствие в Каппадокии сильной власти может привести к большой войне, как это случилось во время противоборства Рима с Митридатом. Ко времени ликвидации царства ситуация вновь была очень острой. В Армении происходила борьба за престол римских и парфянских ставленников, Архелай был уже стар и слаб, в соседней Коммагене умер царь и там происходила борьба между сторонниками и противниками подчинения Риму. К этому добавилась смена власти в Парфии, которую возглавил энергичный Артабан III, готовый отстаивать свои интересы вооруженной силой. Дело могло обернуться большой войной, поэтому Тиберий сделал решительный шаг, сместив под надуманным предлогом Архелая и аннексировав Каппадокию и Коммагену. Таким образом он укрепил позиции Рима на северном участке границы по Евфрату, а в дальнейшем смог достигнуть приемлемого и для Рима, и для Парфии решения армянского вопроса.
Бесплатно
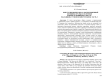
Статья научная
В статье рассмотрены образы женщин в произведениях С. Малашкина «Луна с правой стороны», Л. Гумилевского «Собачий переулок», П. Романова «Без черемухи». Предлагается новый взгляд на положение этих писателей в рамках так называемой дискуссии о «половом вопросе» 1920-х гг. (комплекса выступлений видных советских партийных деятелей, писателей, ученых, юристов о проблемах сексуальности, брака в молодежной среде) в рамках политики культурничества и борьбы за новый быт. Примечательным является тот факт, что в произведениях означенных авторов ведущая роль отводится студенткам или комсомолкам. Некоторые из авторов, следуя традиционному изображению женщины, рисуют ее носительницей моральных ценностей, «сосудом вечного наполнения», хранительницей домашнего очага, которая пошла на поводу модных веяний эпохи («Без черемухи» Романова), другие же делают ее активной участницей борьбы за собственную судьбу, развенчивают миф о пассивности женщины в рамках патриархальной культуры, следуют за модернистскими открытиями, изображая роковую женщину, женщину-вамп, которая поставила на первое место не любовь, а страсть («Собачий переулок» Гумилевского, «Луна с правой стороны» Малашкина).
Бесплатно

Статья научная
В данной рубрике представлены обоснование проекта создания «Экспериментального словаря русской драматургии XX - XXI веков» и подготовительные материалы - словарные статьи, работа над которым уже началась.
Бесплатно

Конфликты и парадоксы золотого блеска литературных метафор
Статья научная
Статья посвящена осмыслению парадоксов англоязычных метафорических структур концептуальной матрицы «золото» в произведениях Уильяма Шекспира и Иоганна Вольфганга Гёте. В фокусе внимания -переплетение золотых образов литературы XVI и XIX вв. с метафорикой современного англоязычного финансового дискурса. К анализу привлечены стилистические средства трагедии «Фауст: Вторая часть» Гёте и четырех пьес Шекспира: «Венецианский купец», «Тимон Афинский», «Все истинно» («Генрих VIII»), «Ромео и Джульетта» в оригиналах и переводах. Персонажи Гёте и Шекспира проходят через искушение богатством, что позволяет на основе герменевтического метода выявить лингвокультурологические сходства и различия метафорического проецирования концептуальных идей авторов. Актуальность исследования -в стремлении расширить существующий контекст научных литературных изысканий об амбивалентной символике золота за счет лингвистического анализа богатейшей метафорики используемых языковых средств в репликах персонажей. В статье прослеживаются интертекстуальные связи с мифическими повествованиями. Очерчены контуры смыслового наполнения золотых метафор. Проведены параллели с другими областями художественного творчества - музыкой, живописью. Многочисленные примеры иллюстрируют, как сеть метафорических ассоциаций расширяет первооснову концептуального конфликта путем переноса концепта в чуждую область (войны, погони, медицины, физики). Результаты исследования могут быть востребованы в лингвистике, когнитивистике, культурологии, а также в сравнительно-историческом изучении литератур.
Бесплатно
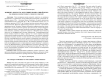
Статья научная
Статья посвящена анализу концепта «кротость» на материале оригинального и переводного текстов памятника аскетической учительной литературы начала VII в. - Лествицы Иоанна Синайского. К анализу привлечены опубликованный текст памятника (PG. T. 88), 2 византийских кодекса X в. и 6 славянских рукописей XII-XIV вв. Основным методом анализа является лингвотекстологический. Выявлены вербализаторы концепта «кротость» в греческом и переводном текстах Лествицы. Описаны особенности перевода греческих лексем. Выявлены 4 случая нетипичного перевода греческой лексемы, которые обнаруживают творческий подход и высокое мастерство славянского переводчика. Обнаружены концепты, связанные с концептом «кротость». Обозначено место концепта «кротость» на метафорической лестнице добродетелей. Словообразовательный анализ концепта «кротость» привел к выводу, что в тексте перевода Лествицы семантический диапазон концепта был более широким: в это понятие славянский переводчик Лествицы включал и такие качества, как безмолвие и спокойствие. Поэтому словообразовательное гнездо концепта в славянском языке является намного большим, чем в греческом языке. В результате проведённого анализа обнаружились новые значения лексемы кротость, не нашедшие отражения в исторической лексикографии русского и старославянского языков. Выявлены 7 славянских лексем, не зафиксированных в лексикографических источниках. Внесена ясность в историю бытования древнейшей русской рукописи Лествицы (Рум. 198): в XII-XIV вв. она находилась на северных землях и стала источником для копирования книги новгородскими писцами.
Бесплатно

Концепт «еда» в пословицах языка суахили
Статья научная
Объектом исследования являются пословичные тексты языка суахили, относящиеся к концепту «еда». Предмет исследования – специфика реализации концепта «еда» в пословицах и поговорках языка суахили. Материалом для исследования послужил не только паремиологический фонд языка суахили, являющийся частью древнейшего фольклорного пласта, но и личные материалы автора, записанные в ходе поездки на остров Занзибар. В данной статье автор рассматривает паремии, отражающие культурные особенности суахилийцев, раскрывающиеся через призму концепта «еда». Рассмотрение концепта «еда» сквозь призму паремий суахили обладает особой актуальностью, поскольку пища представляет собой базовую потребность любого человека и отражает аксиологическую систему суахилийцев. Одновременно с этим процесс приема пищи и все, что связано с ним, значительно различается у разных народов мира, что ярко репрезентировано в паремиях языка суахили. Исследуемый материал позволяет выделить как общенациональные поведенческие черты, так и сугубо национальные особенности, связанные с отношением к пище. Анализ паремий позволяет сделать вывод об основных культивируемых культурах (рис, бобовые), о традиционных блюдах восточноафриканской кухни (угали, похлебка), произрастающих плодах (бананы, ананасы), узнать о традиции суахилийцев есть руками и приносить угощения к общему столу, об уважительном отношении к гостям и многих других тонкостях, связанных с бытом жителей восточной Африки. Кроме того, пословицы суахили, затрагивающие концепт «еда», как и другие паремии, объективируют действительность, выступают в качестве прагматических рамок и норм поведения, транслируя общечеловеческие законы бытия.
Бесплатно
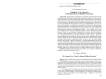
Концепт лн ‘облако’ в фольклоре калмыцкого народа
Статья научная
Данная работа посвящена исследованию концепта облака (тучи) на материале фольклорных произведений калмыцкого народа. В силу своей несамостоятельности и относительной нечастотности представления о данном природном явлении сложно реконструировать общую схему концепта, этим и определяется актуальность проведенного исследования. Материалом исследования выступили разножанровые фольклорные тексты, как опубликованные, так и не изданные на калмыцком и в переводе на русский язык. В результате проведенного анализа фольклорных произведений калмыцкого народа был реконструирован концепт облака (тучи). В калмыцком языке существует всего одна лексема для обозначения исследуемого атмосферного явления - YYлн ‘облако, туча’, которое в зависимости от контекста обозначает разную степень проявления данного явления. Облако по своей природе амбивалентно, поскольку является небесным по своему происхождению, в силу этой природы оно может иметь и созидательную, и разрушительную силу, причем последняя, видимо, связано с архаичными представлениями об облаке как объекте, несущем тьму, закрывающим солнце (жизнь). Облако, поскольку является видимым объектом, обладает вполне определенными физическими характеристиками: легкость, цвет, величина, форма. Имеется связь облака с небесным драконом лу, который превращается при спуске на землю в верблюда, небесного по своему происхождению. В калмыцком фольклоре облако выполняет функции, которые обусловлены архаичными представлениями о нем: облако является связующим между верхним и средним мирами, оно исцеляет, несет благо, спасение, является предвестником гостей (как друзей, так и врагов). Кроме того, облако участвует в создании гипербол высоты и скорости.
Бесплатно
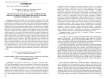
Статья научная
Александр Блок (1880-1921) и Алджернон Суинберн (1837- 1909) были выдающимися поэтами своего времени: Суинберн был чрезвычайно популярен в викторианскую эпоху не только в Англии, но и в других европейских странах, а Александр Блок по праву считается одним из главных поэтических гениев русской поэзии Серебряного века. Суинберна можно назвать старшим символистом-современником Блока: и стиль, и поэтика их произведений были и радикальными, и декадентскими по преимуществу. Метрическое разнообразие их поэзии (строфическая структура, ритмо-мелодический рисунок) выделяет и 229 Суинберна, и Блока из ряда других заметных поэтов fin de siècle: так, Суинберн активно использовал строфическую форму ронделя (вариация классического французского рондо), а Блок был в числе тех поэтов-символистов, кто активно пользовался дольником, русским тоническим стихом. И Блок, и Суинберн проявляли живой интерес по отношению к европейскому Средневековью (поэмы и баллады Суинберна / поэтические циклы «Ante Lucem» и «Стихи о Прекрасной Даме» у Блока) и к современному искусству (дружба Суинберна с идейным вдохновителем Братства Прерафаэлитов Данте Габриэлем Россетти; блоковское восхищение творчеством современных художников-символистов, в т.ч. Михаила Врубеля). Даже беглого взгляда на творчество Блока и Суинберна достаточно, чтобы увидеть, как много общего было в их поэзии, однако есть и еще одна тема, позволяющая говорить о более тесном сходстве суинберновской и блоковской поэтики, а именно, пристальное внимание авторов к темам, сюжетам и символам, связанным с морем и океаном. Главная задача нашей работы - постараться выявить это сходство и продемонстрировать, как морской / океанический дискурс делает произведения Блока и Суинберна одновременно и современными, и классическими, и привлечь в качестве примеров их работы разных лет.
Бесплатно
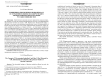
Статья научная
Теоретическое наследие русских символистов оказало решающее влияние не только на становление формализма в России, но на формирование представления поэтики как науки у В.М. Жирмунского. Жирмунский наряду с другими, в том числе отечественными символистами, стоял у истоков развития в России поэтики как науки. Если статью «Преодолевшие символизм» можно назвать манифестом акмеизма, то «Задачи поэтики» - не менее ярким манифестом нового литературоведения 1920-х гг. В связи с этим в данной работе прослеживается, каким образом трансформировалось восприятие русского символизма ученым и в каком контексте это происходило. Уже ранний, а в еще большей степени зрелый Жирмунский подчеркивал значительный вклад литературоведческого наследия русских символистов. Результаты исследования свидетельствуют о том, что в оценке литературоведческих концепций русских символистов ранний Жирмунский, как и в оценке наследия символизма в целом, воздавая должное им, был критичен, однако позже, в 1960-е гг., он отмечал огромное значение литературоведческих идей символистов. Это шло в русле эволюции отношения Жирмунского к символизму вообще. Поздний Жирмунский, в отличие от раннего, фиксировал не столько различие поэтики, к примеру, А.А. Блока и А.А. Ахматовой, сколько сходство. Установлено, что концепция «преодоления символизма» отразилась в оценке Жирмунским литературоведческого наследия русских символистов. Они перекликаются и развиваются во взаимоотражении. Автор статьи указывает на то, что в поздних работах Жирмунский возвращается не только к идеям символистов, но и к их литературоведческому наследию.
Бесплатно

Концепция «романа-трагедии»: полемика М. Бахтина с Вяч. Ивановым
Статья
В статье анализируется жанровая концепция «романа-трагедии», предложенная Вяч. Ивановым, и полемически осмысленная М. Бахтиным. Отмечены моменты сближения исследовательских позиций и прослежен характер трансформации ивановских идей в концепции полифонического романа. Проблематика «романа-трагедии» рассмотрена в контексте понятий «зиждущая форма» и «эстетический объект». Делается вывод о том, что в основе дискуссии о жанре лежит фундаментальная оппозиция религиозно-этического и эстетико-поэтического подходов, обусловленная спецификой творчества Достоевского.
Бесплатно

Концепция барочного этоса Боливара Эчеверрии
Статья научная
В статье рассматривается концепция барочного этоса Боливара Эчеверрии, ее истоки и предпосылки в контексте барочных теорий Латинской Америки и поисков континентальной идентичности. Концепция барочного этоса не только развитие «классических» концепций Х. Лесамы Лимы и А. Карпентьера или представлений о необарокко С. Сардуя. Эта вполне самостоятельная теория охватывает практически все сферы культуры. Роль идеологической базы для концепции Эчеверрии, имеющей генетические связи с философией экзистенциализма и неомарксизма, сыграло учение об этосах немецкого философа Б. Хюбнера, которое эквадорско-мексиканский философ совместил со своими представлениями о разных моделях общества, обозначив каждую из четырех рассмотренных моделей названием одного из исторических стилей в искусстве. В результате выстроилась система этосов: «реалистический» (связанный с современным потребительским обществом и базирующийся на протестантской этике), «романтический» (зиждущийся на вере в возможности человека, воплотившейся в культе сильной личности, и особом взгляде на государственность), «классический» (с заведомо предопределенными социальными ролями и функциями) и «барочный», с точки зрения Эчеверрии, противопоставленный всем предыдущим и являющийся специфическим этосом Латинской Америки. Эчеверрия соединяет особенности стиля барокко, во многом опираясь на трактовку В. Беньямина (театральность, внутренняя противоречивость, многообразие), с опытом создания латиноамериканских барочных концепций и выводит из этого особую латиноамериканскую жизненную философию.
Бесплатно

Концепция испанского языка в литературных работах Камило Хосе Селы
Статья научная
Статья анализирует рассуждения К.Х. Селы (лауреата Нобелевской премии по литературе 1989 г.) об испанском языке и то, как они отразились в его художественных работах. Села – представитель поколения писателей, которые ступили на литературную арену в годы франкистской цензуры, литературная общественность ждала от них переизобретения языка («адамизма»). Села начинал как поэт-сюрреалист, постист. Он интересовался периферийными языковыми явлениями (докастильским и латиноамериканским испанским, табуированной лексикой): их язык писатель считал подчиненным диктату переменчивой реальности, а не институций, словарей. В своих работах Села творчески воплощает идеи о том, что лимитирует свободу мысли не язык, а представление о нем как о статичной структуре. Села подчеркивает, что пути развития языка, смысл слов не предписаны человеком или естеством именуемых вещей, а (пере)определяются сонмом (вне)языковых контекстов, неподвластных цензуре, этой эстетико-философской концепцией он руководствуется при составлении словарей табуированной лексики. Он также показывает, что употребление несловарной лексики сопряжено с рефлексией о контексте речи и способствует (само)идентификации, субъективизации коммуникантов, когда, пользуясь в своих латиноамериканских романах авангардистскими приемами мнимой иноязычности поэта и атомизации языка до первоэлементов, имитирует местные диалекты и воспроизводит мотив произнесения первозданного слова, в латиноамериканской литературе являющийся формой вопрошания и о природе сущего, и о характере говорящего.
Бесплатно

Статья научная
Статья приурочена к 120-летию со дня рождения крупнейшего отечественного специалиста по эстетике и теории литературы Михаила Александровича Лифшица (1905–1983). Предметом анализа стала история осмысления категории народности в советском литературоведении с кратким экскурсом в историю данной проблемы досоветского периода. В советской литературной критике и эстетике народность как эстетическая категория описывалась в неразрывной связи с новоизобретенными категориями классовости и партийности. Лифшиц как представитель марксистской эстетики формально не отвергал категории классовости, однако оказался в оппозиции по отношению к официально принятой точке зрения, настаивавшей на приоритете т. н. классового подхода к произведениям литературы и искусства. Позиция Лифшица и его команды, сформировавшейся вокруг журнала «Литературный критик», подвергалась критике как уступка буржуазному литературоведению. При очевидном отмирании необходимости классового подхода по мере формирования так называемой новой общности «советский народ», стирающей классовый антагонизм прошлого, в теории литературы тем не менее ощущался страх утраты категории классовости. Проанализированная в статье концепция народности Лифшица, исходившая из признания полезности для советского человека классического искусства и литературы независимо от, а подчас и благодаря, отсутствию в ее содержании мотива классовой борьбы, критики социального строя, разного рода социальных протестов и под., открывала дорогу к освоению во всей полноте классического наследия с введением его в актуальный социально-эстетический дискурс советской действительности.
Бесплатно


