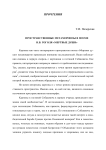Статьи журнала - Новый филологический вестник
Все статьи: 1787
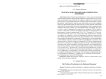
Проблема фокализации в диахроническом измерении
Статья научная
Фокализация рассматривается в статье как регулятивный механизм повествования, определяющий особенности презентации диегетического мира внутреннему взору читателя. Как правило, нарратологи отождествляют роль адресата в реализации фокальных возможностей повествования с ролью рассказчика / повествователя: адресат видит мир истории так же, как и нарратор, являясь его абсолютной копией. По нашей гипотезе, читатель обладает собственной «зрительской» компетенцией. Последняя же раскрывается лишь в диахроническом измерении, выступая основой трех типов фокализации, сменяющих друг друга от эпохи к эпохе. В древнерусской словесности и литературе XVIII в. читатель «узнает» известные (готовые) сочетания подробностей (архаический тип фокализации). Адресат произведений XIX в. (А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского) имеет дело с непредсказуемой совокупностью деталей, из которых он «собирает» логически завершенную картину (классический тип). Фокализация неклассического типа предусматривает такую читательскую компетенцию, как фиксация («созерцание») повествуемого: детали приковывают к себе внимание адресата, однако не требуют «расшифровки», поскольку лишь свидетельствуют о наличии условного универсума (А. П. Чехов, орнаментальная проза XX в.), порождая т.н. «эффект реальности» (Р. Барт). Типы фокализации не сменяют друг друга безвозвратно. Однажды возникнув, они воспроизводятся вновь на последующих стадиях эволюции нарративного дискурса. Классический тип сосуществует с архаическим, неклассический формируется на фоне классического (А. П. Чехов), архаический реактуализируется в соцреализме (А. С. Серафимович, Д. А. Фурманов, А. А. Фадеев, Ф. В. Гладков), классический - в литературе модернизма (М. А. Булгаков, Б. Л. Пастернак) и современной прозе (Е. Г. Водолазкин, З. Прилепин, С. А. Шаргунов, Л. Е. Улицкая), неклассический - в постмодернистских текстах (М. П. Шишкин).
Бесплатно
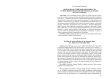
Проблемы австрийской идентичности в смысловом пространстве романа А. Кубина "Другая сторона"
Статья научная
Статья посвящена анализу романа А. Кубина «Другая сторона» в контексте одной из ведущих проблем австрийской действительности на рубеже XIX-XX вв. - проблеме идентичности, определившей появление психоанализа и запечат-ленной в искусстве Австрии указанного периода. В статье описаны связи идейной и мотивной структуры романа с разнообразными явлениями эпохи. Автор отражает в романе социально-политическую ситуацию в Европе, технический прогресс, собственно литературную моду, связанную с именами Гофмансталя, Бара, Шницлера, Беер-Хофмана, и авангардные тенденции в творчестве П. Шеербарта. Кроме того, в статье отмечены приемы барочной поэтики, использованные автором в создании художественного мира романа, что позволяет рассмотреть текст не только как характерное явление австрийской литературы, но вписать в общую традицию развития немецкоязычной литературы.
Бесплатно

Статья научная
В статье рассматриваются проблемы сопоставительного исследования памятников буддийской литературы на тибетском и ойратском языках. За последние два с половиной столетия в отечественной монголистике проведена большая работа по выявлению и описанию монгольских и ойратских переводов буддийских сочинений, но до сих пор их значительная часть не введена в научный оборот. Преодоление этих трудностей в отечественном востоковедении решается путем привлечения новых цифровых методов и программных инструментов. Одним из них является составление корпусов параллельных двуязычных текстов. Полученные при этом данные могут использоваться не только в лингвистических исследованиях, но и в культурологии, буддологии, литературоведении, теории перевода и других областях. Образцы буддийской литературы, появившиеся у ойратов и калмыков, были составлены на тибетском языке. Большой массив разножанровых сочинений на ойратский язык переведен известным ученым и литератором Зая-пандитой Намкай Джамцо (XVII в.) и его учениками. Именно этот круг текстов на ойратском «тодо бичиг» («ясном письме») и их первоисточники на тибетском языке взяты за основу при создании корпуса параллельных текстов. Сопоставительный анализ этих текстов, правил перевода с тибетского на ойратский и монгольский языки, основанных на принципах дословного и смыслового переводов, многое дает в решении вопросов создания программного обеспечения, последующих проблем выравнивания двух текстов, задач их сегментации и проч. Разрабатываемый корпус текстов из письменного наследия Зая-пандиты способствует его сохранению для последующих поколений исследователей и всех интересующихся духовной культурой монгольских народов, а также поднимает исследования в этой области на новый уровень благодаря задействованным цифровым ресурсам.
Бесплатно

Проблемы интерпретации китайской драмы Ван Шифу в советской переводческой и театральной практике
Статья научная
Авторы представляют древнюю китайскую пьесу «Записки западного флигеля» (“Xi xiang ji”), ее русскую адаптацию «Пролитая чаша» (“Kong bei ji”) А.П. Глобы и интерпретацию «Западный флигель, где Цуй Ин-ин ожидала луну» Л.Н. Меньшикова. Авторы анализируют русскую адаптацию пьесы «Записки западного флигеля» методом реконструктивной и анахроничной интерпретации на основе теории современной литературной герменевтики Э.Д. Хирша. Авторы пришли к выводу, что интерпретация пьесы «Записки западного флигеля» Л.Н. Меньшикова является реконструктивной. Русская интерпретация Л.Н. Меньшикова в основном следует оригиналу, кроме немногих поверхностных отличий, проистекающих из различий культурных и лингвистических. Пьеса «Пролитая чаша» является анахроничной интерпретацией. Несмотря на то что при постановке русской пьесы «Пролитая чаша» имитировался старый китайский стиль (декорации, одежда, музыка), этически, композиционно и в отношении системы персонажей содержание пьесы соответствует социальному заказу, довлеющему над советским переводчиком в 50-х годах прошлого века. Этот перевод является кросс-культурной, кросс-временной адаптацией. Авторы описывают уровни восприятия «Записок западного флигеля» Ван Шифу и «Пролитой чаши». Авторы анализируют метод А.П. Глобы в аспекте трансформации значения пьесы. В выводах авторы рассмотрели политическую причину создания спектакля «Пролитая чаша» в начале 1950-х гг. и возможные причины издания перевода и адаптации в 1960 г. После прошедшего в 1957 г. в Москве VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в СССР появилось много людей, искренне интересующихся культурой народов зарубежья.
Бесплатно
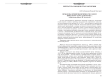
Проблемы личной идентичности в эпоху шведского «Дома для народа»: «Апрельская ведьма» М. Аксельссон
Статья научная
В статье рассматривается направление шведской литературы, центральной темой которого становятся проблемы представителей современного поколения, чье детство пришлось на середину 60-х гг. ХХ в. - эпоху активного строительства шведского «Дома для народа». Роман М. Аксельссон является одним из наиболее значительных произведений, в котором исследуются психологические, социальные и этические причины, побудившие многих членов шведского общества отказаться от воспитания нездоровых детей и оставить их в специализированных клиниках. Автор романа показывает взаимосвязь между страданием, пережитым в детстве, и эмоциональной нестабильностью во взрослой жизни. Для художественного воплощения темы М. Аксельссон использует фрагментарный тип повествования, совмещение реального и условного планов, приемы двойничества, монологическую форму речи. Текст является характерным примером шведской женской социально-психологической прозы, ориентированной на осмысление проблемы личной идентичности.
Бесплатно
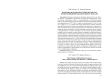
Проблемы мультикультурной литературы: полихромный витраж или разбитое зеркало?
Статья научная
Крушение колониальных империй в середине ХХ в., как известно, привело к образованию пространства на территории порабощенных в прошлом стран, качественного нового в экзистенциальном и эпистемологическом смыслах. Такое пространство стало именоваться постколониальным представителями оформившейся в 1970-1980 гг. теории постколониализма (Э. Саид, Х. Бхабха, Г. Спивак и т.д.), и это новое понятие предложило более глубокое понимание таких фундаментальных проблем, как миграция и маргинальность, гибридность и новая государственность, переходная идентичность и гетероглоссия. Важная тема творчества писателей бывших колоний затрагивала оппозицию между западной и традиционными, местными культурами. Так постепенно вызревал феномен, который получил название мультикультурной литературы, которая предполагает, главным образом, гетерогенную репрезентацию культурной идентичности. Новая мультикультурная литература отражает атмосферу полиэтнической среды, которая дарует возможность жить бок о бок представителям разных национальностей с их культурной множественностью, а также неизбежность формирования гибридной идентичности, дающей уникальный шанс не только выходить за пределы границ своего этнического наследия, но и развивать личность в рамках многообразного исторического опыта. Среди мультикультурных авторов - лауреаты Букеровской (С. Рушди, А. Десаи, К. Десаи, А. Гош) и Нобелевской (В. Найпол, Д.М. Кутзее, К. Исигуро, А. Гурна), других престижных литературных премий мира, что доказывает востребованность произведений этих писателей как у рядовых читателей, так и у литературоведов и критиков.
Бесплатно

Проблемы стиля современной прозы. Стиль феномена «молодежного сознания»
Статья научная
В теоретической статье, написанной на стыке ряда научных дисциплин, на основе исследования произведений широкого временного диапазона представлена диалектика «искусства» и «действительности» как подход к освоению литературного материала. В частности, формулируется определение социокультурной модели «молодежного сознания» как новых социокультурных и стилевых связей, объединяющих прозу «двадцатилетних-тридцатилетних» в стилевую тенденцию (литературное поколение) и обосновывающих типологию литературы «молодежного сознания» различных эпох.
Бесплатно
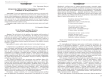
Проблемы типологии субъектных структур в лирике О. Мандельштама
Статья научная
В статье рассматриваются проблемы типологии и поэтики субъектных структур лирики О.Э. Мандельштама. В частности, особое внимание уделяется степени выраженности лирического субъекта и его функциям в пределах поэтического текста. Впервые субъективность автора в «безличных» стихотворениях исследуется как текстопорождающий принцип поэтики Мандельштама. В итоге показано, что анализ мандельштамовской поэзии актуализирует проблему субъектной организации лирики в целом.
Бесплатно

Продолжение классических традиций изображения "простых людей" в тюремной прозе К. Ярмыш
Статья научная
В статье рассматривается система персонажей как канал литературной традиции, вызывающий в памяти читателя знакомые тексты и тем самым выводящий его на более глубокое понимание смысла новых произведений. При этом необязательно воспроизводить систему персонажей классического произведения со всеми элементами и подробностями: порой достаточно сохранить «рамку» - суть взаимоотношений героев из разных социальных групп. В наиболее читаемых произведениях на тюремную тему, в частности, большое значение имеют отношения условно «простого» (или «маленького») человека с «благородным» (образованным) или политическим заключенным. Для классической русской литературы, придерживающейся ценностей «христианского реализма», характерно построение образа «простого человека» как героя духовно самоценного, равного автору и читателю, несмотря на объективирующий взгляд на него других персонажей. В тюремной прозе советского периода (например, в творчестве А.И. Солженицына) степень субъектности таких героев несколько снижена, но отнюдь не исключена - они по-прежнему сохраняют свое внутреннее «я» свободным и нетронутым. Именно эту особенность изображения взаимодействия героев, остающуюся вполне актуальной, и подхватывает современная литература в лице К. Ярмыш. В романе «Невероятные происшествия в женской камере № 3» главная героиня склонна воспринимать своих соседок по камере поверхностно и относиться к ним свысока, однако эта тенденция в ходе повествования преодолевается авторской волей.
Бесплатно

Продолжение чужого произведения - интертекстуальный жанр или форма культурного паразитизма?
Статья
Коммерциализация искусства благоприятствует популярности продукции типа сиквел, соответствующей вкусам массового потребителя. Огромное количество примеров доказывает, что степень зависимости продолжения от образца ставит под вопрос индивидуальность произведения. Заимствуя чужих героев вместе с их предметным миром и ограничивая творческие изыскания выдумыванием новых звеньев фабулы, писатель редко выходит за пределы культурного паразитизма. Однако среди продолжений известных произведений в литературе можно найти примеры, претендующие на звание оригинальных авторских проектов, в которых дополнение произведения другого автора художественно функционально, подчинено собственной картине мира и идее. На нескольких примерах из польской и русской литературы в статье обсуждается вопрос, можно ли анализировать продолжение сюжета как один из интертекстуальных жанров, т.е. произведений, структура и смысл которых основываются на прямой реляции к тому, что уже написано.
Бесплатно

Производные от греческого корня арх- в русском языке
Статья научная
В статье рассматриваются производные от греческого корня арх- в русском языке. По материалам словарей прослеживается этимология слов этой группы, интенсивность их вхождения в русский язык, а также фонетическое оформление и развитие значений на русской почве. Статья содержит рекомендации по уточнению словарных данных.
Бесплатно

Производные от греческого корня арх- в русском языке (окончание)
Статья научная
В статье рассматриваются производные от греческого корня арх- в русском языке. По материалам словарей прослеживается этимология слов этой группы, интенсивность их вхождения в русский язык, а также фонетическое оформление и развитие значений на русской почве. Статья содержит рекомендации по уточнению словарных данных.
Бесплатно
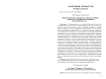
Происхождение "Язычества" Рикарду Рейша - самого загадочного гетеронима Фернандо Пессоа
Статья научная
Статья раскрывает суть и значение нового португальского или трансцендентального язычества, положенного Фернандо Пессоа в основу творчества его самого малоизученного и самого загадочного гетеронима - Рикарду Рейша. В первой части статьи раскрывается происхождение этого гетеронима, черты его биографии, роднящие Рейша с его творцом. Освещены особенности его своеобразного поэтического слога, наполненного лексическими архаизмами, латинизмами и даже эллинизмами, повторяющимся использованием вычурных фигур речи (гипербатона, эллипсиса, умолчания, оксюморона и др.), намеренно латинизированный слог, перевернутый или искаженный порядок слов, который усиливает впечатление от его поэтической речи, придает ей благородство и возвышенность, но вместе с тем и холод, искусственную отстраненность от читателя, в связи с чем его тексты долгое время не были поняты и признаны критиками. Раскрывается своеобразная метрика, перекликающаяся с атичными моделями, но вовсе им не следующая слепо, являющаяся по своей сути своеобразным поэтическим экспериментом Рейша / Пессоа. Во второй части статьи раскрываются истоки «язычества» Рикарду Рейша, которые можно найти в следовании примеру Луиса Камоэнса (особенно его «Лузиадам»), в постоянном поиске альтернативы официальной христианской религии, в которой он был полностью разочарован, что привело его, в частности, к гностицизму, а именно к языческому гностицизму, выраженному в трудах герметиков. Еще одна причина обращения Пессоа / Рейша к язычеству: для него это - путь к свободе. Рейш - единственный гетероним Пессоа, в творчестве которого португальский гений нашел покой и внутреннюю свободу.
Бесплатно
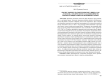
Статья научная
Проблемы эволюции эпических форм являются дискуссионными и в настоящее время. Эпическая традиция калмыков требует обособленного взгляда на ранние и поздние ее образцы, как и на их локальность. Цель и задачи исследования заключаются в выявлении закономерностей стадиального развития внутри локального цикла, в связи с чем выделены композиционные структуры песен цикла, изучен сюжетно-мотивный фонд. Материалом исследования являются три песни раннего Багацохуровского цикла калмыцкого эпоса «Джангар» (1853-1862 гг.). В работе применялись сравнительно-сопоставительный, сравнительно-типологический методы исследования. Рассмотрение внутренней сюжетно-композиционной структуры и изучение сюжетно-мотивного фонда локального Багацохуровского цикла позволило проследить его возможную стадиальную эволюцию. Анализ показал, что единый пролог цикла может являться «осколком» архаического сказания, которое преобразовалось из одноходового сказания о сватовстве героя в эпическую двухходовую песнь с матримониальными и воинскими коллизиями. Как пишет Е.М. Мелетинский, «комплекс “испытание плюс добывание” может стать основой и для дальнейшего развития мифа в сказку или эпос». Наличие в едином прологе Багацохуровского цикла матримониальной темы и темы завоевания иноплеменника Савара с комплексами ядерных мотивов является основным доказательством состоятельности возможного развития цикла. Более того, развитие цикла соответствует закономерностям стадиальной эволюции эпоса - это мифологическое время, брачные коллизии главного героя, черты мифологического персонажа, противник эпического богатыря, объемы пролога, увеличение объема произведения; исключением стала лишь традиция исполнения.
Бесплатно
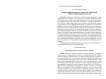
Пропозициональная структура события в повествовательном тексте
Статья научная
В статье, на основе ряда лингвистических концепций: теории предикации (Е.В. Падучева, С.Д. Кацнельсон), концепции бытийного дискурса (В.И. Карасик), а также теории макропропозиции (Т. ван Дейк), раскрывается специфика «события рассказывания» и «события, о котором рассказывается» (М.М. Бахтин) в повествовательном тексте. Показано, что пересечение границы «семантического поля» («запрещающей границы»), о которой, как о непременном атрибуте события, писал Ю.М. Лотман, может осуществляться как актантом наррации, так и актантом коммуникации. В первом случае формируется макропредикативная структура события, «о котором рассказывается», соотносимая с соответствующей макропропозицией (Т. ван Дейк - В. Кинч) в качестве эстетического объекта. Во втором случае макропредикативная структура «события рассказа», которая складывается, в частности, в логике лотмановской «эстетики противопоставления», связывает становящийся текст (рассказ) с предшествующей литературной традицией, формируя макропропозицию «отказа». Материалом для анализа события «рассказывания» и события, «о котором рассказывается», в статье послужили новелла Э.А. По «Лигейя» и фрагмент романа Г. Флобера «Госпожа Бовари».
Бесплатно
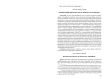
Прорицания (пророчества) в литературе буддизма
Статья научная
В статье рассматривается роль и функции пророчеств (прорицаний) в буддийской литературе, дается описание сочинений жанра «наказ; речения, наставление» (монг. jarliy, ойр. jarliq), в которых пророчествам отводится важная роль в проповеднической деятельности буддийских иерархов. Также рассматривается особая роль прорицаний (предсказаний) в повествовательной литературе, созданной тибетскими и монгольскими авторами. Одним из таких сочинений является «Повесть о Лунной кукушке» - сочинение тибетского автора Дагпу Лобсан-Данби-Джалцана, переведенное на монгольский язык. В нем прорицание одной из главных героинь, царицы Матимахани, сделанное в начальной главе, по сути, является фабулой всего повествования о ее сыне царевиче Дхармананде. Важнейшей особенностью таких пророчеств в «Повести.» является не простое изложение определенных событий, но и перечисление линий преемственности (перерождений) тех или иных персонажей, среди которых предстают божественные персоны, воплощения божеств буддийского пантеона. Автор приходит к выводу, что включение в тексты «наказов, речений, наставлений» пророчеств, предсказаний будущего было призвано пробудить в людях страх и благоговение, расширяло представления о составе мира и его динамике. Что касается повествовательной литературы, поскольку пророчества вкладывались в уста божеств, то это обстоятельство делает прорицания не подлежащими сомнению. В то же время прорицание не только будущих, но и прошлых воплощений того или иного персонажа является своего рода подтверждением достоверности излагаемых событий, упоминаний известных персон.
Бесплатно
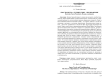
Пространство - путешествие - преображение. Повесть Ольги Рожнёвой "Полынь скитаний"
Статья научная
Художественный травелог основан на документе, подобно большинству жанров православной художественной прозы. Личностный рост герояпутешественника есть отличительный признак современного травелога. Повесть Ольги Рожнёвой «Полынь скитаний» (2018) - это одиссея, повесть о долгих вынужденных скитаниях с жестокими перипетиями. Документальная основа сюжета - жизнь М.Г. Дубровской, в замужестве фон Люэлсдорф, рассказанная ею самой. Повесть лежит в русле традиции произведений Жюля Верна. Она обладает научно-познавательной ценностью, опирается на описания природы, истории и быта различных стран, рисует человека во взаимодействии с природой. Среди источников информации - воспоминания русских эмигрантов, письма, исторические справки, фрагменты из стихотворений поэтов Русского Харбина как свидетельство о событиях, воспринятых личностно. Исторические описания суть элементы картины мира. Часть его связана с добром, милосердием, созиданием, часть - с безмерной жестокостью и разрушением. Стилевую основу повествования образует несобственно-прямая речь героини, дополненная голосами близких либо чужих. Это создает широкую панораму эмоциональных и нравственных оценок. Повествование переходит к первому лицу, когда героиня начинает преображаться под влиянием святителя Иоанна (Максимовича), чтобы отвергнуть ненависть как источник зла в душе. Голос владыки звучит в диалогах, в пересказе героев, свидетельствах для жития. Звучание того или иного голоса говорит о состоянии духа героев, характеризуя место в разных планах с точки зрения оказавшихся там лиц. Субстанциональный конфликт добра и зла лежит в основе сюжета, по ходу которого происходит становление личности героя. Травелог позволяет показать, что вершинные достижения духа, как и низменные состояния его, возможны в любом месте. Тем самым человеческий дух предстает свободным, независимым от обстоятельств.
Бесплатно

Статья обзорная
Предлагаемый реферативный обзор посвящен V Международной конференции молодых ученых «Пространство и время в русской литературе и философии», которая прошла 15-16 ноября 2022 г. в научной библиотеке и мемориальном музее «Дом А.Ф. Лосева» и была посвящена 90-летию Института мировой литературы имени А.М. Горького РАН. Помимо названных учреждений организаторами конференции также были Центр русского языка и культуры имени А.Ф. Лосева Института филологии МПГУ и журнал «Соловьевские исследования». В ней приняли участие молодые исследователи и специалисты из разных городов России и Китая. На конференции обсуждались вопросы, связанные с понятиями пространства и времени, которые рассматривались как фундаментальные онтологические категории не только в контексте художественных произведений, но и в контексте понимания человеком собственной роли и места в мире. Внимание докладчиков было уделено эволюции представлений о тесной взаимосвязи пространства и времени в философии и культуре, символическому значению хронотопа как отражения художественной философии автора, специфике пространственно-временной организации произведений русской литературы, а также философско-эстетическим аспектам темпоральных и пространственных образов и мотивов в художественных текстах. Конференция позволила выявить новые связи между отечественной и мировой литературой и философией, подтверждающие синтетический характер русской культуры и насущную потребность ее дальнейшего изучения в этом аспекте.
Бесплатно