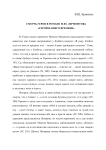Статьи журнала - Новый филологический вестник
Все статьи: 1787
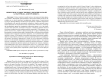
Синкретизм художественного времени в романе Б. Пастернака «Доктор Живаго»
Статья научная
В статье излагается новый подход к изучению категории времени в романе Б. Пастернака «Доктор Живаго». Вследствие влияния поэзии Б. Пастернака на его прозу произошла модификация жанра романа. Семантическая структура «Доктора Живаго» соответствует пространству и времени лирического стихотворения, чей масштаб многократно умножился, появился связный сюжет, однако принципы его построения остались лирическими. В частности, Б. Пастернак воспринимает время как совершенное лирическое время, то есть как нераздельную связь прошлого, настоящего и будущего. Синкретизм времени является следствием синкретического восприятия родов литературы Б. Пастернаком, который не мыслил эпоса, лирики и драмы отдельно друг от друга. Исключительная роль времени в художественном мире «Доктора Живаго» обусловлена как общими модернистскими «поисками утраченного времени», так и особенностями «персональной эстетики» Б. Пастернака, для которой свойственно трагическое мировосприятие. Таким образом, трагичность присуща «Доктору Живаго» на универсальном уровне. Трагичность проявляется в четкой, по сути музыкальной, структуре сюжета и его внутренней завершенности (каждый элемент сюжета - часть целого замысла, содержащая те же проблемы и приемы в меньшем масштабе). С позиций целостного восприятия времени в романе дано большинство эпизодов, играющих смыслообразующую роль всего произведения. Более того, с развитием сюжета отдельные мотивы многократно усложняются, поскольку переплетаются, даются с разных точек зрения разных персонажей в разное время, но всегда образуют единство.
Бесплатно
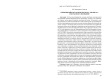
Синьцзян-ойратская версия эпоса «Джангар»: тексты и исследования
Статья научная
В статье рассматриваются основные проблемы эпосоведческих исследований синьцзян-ойратской версии «Джангара», которая в силу объективных причин долгое время оставалась малоизвестной науке. Актуальность темы исследования и ее новизна заключаются в осмыслении научных исследований китайских джангароведов, результатов изучения синьцзян-ойратской эпической традиции, которые в настоящее время недоступны отечественным исследователям, поскольку изданы они на ойратской и старомонгольской письменности. Письменная фиксация песен синьцзян-ойратской версии эпоса «Джангар» началась в конце 70-х годов прошлого столетия. Джангароведами Китая была развернута полномасштабная работа по выявлению и записи джангарчи по всем районам Синьцзяна (СУАР КНР). В результате систематического сбора эпического наследия были подготовлены и опубликованы многотомные издания текстов песен «Джангара». На современном этапе развития джангароведения в Китае публикация полевых материалов продолжается, тексты героического эпоса «Джангар» представляют ценнейший источник для наиболее полного, всестороннего изучения уникального памятника синьцзянских ойрат-монголов. Первые изыскания исследователей посвящены рассмотрению вопросов бытования «Джангара», изучению биографии рапсодов и сказительской традиции ойратов Синьцзяна. В научных трудах китайских ученых рассматриваются исторические предпосылки возникновения эпоса «Джангар» и вопросы генезиса, распространения эпоса «Джангар» в Калмыкии, Синьцзяне и Монголии, изучаются проблемы сравнительно-типологического исследования образной системы, сюжетов и мотивов. «Джангар» как уникальный памятник эпического творчества включен правительством КНР в список важнейшего национального нематериального культурного наследия, охраняемого государством. В целях сохранения и научного исследования эпического наследия китайскими учеными разрабатывается единая интегрированная информационная система, содержащая электронные базы данных по джангароведению: полнотекстовые, библиографические, звуковые, графические, документально-фактографические и мультимедийные, которые, являясь уникальным комплексным ресурсом хранения, поиска и дальнейшего использования материалов, позволяют эффективно решать научно-исследовательские задачи фольклористов Китая.
Бесплатно

Система антропонимов романа В.С. Маканина "Асан"
Статья научная
Статья посвящена анализу антропонимов романа В.С. Маканина «Асан». Объектом исследования является система имен собственных главного героя произведения. Цель предпринятого анализа состоит в выявлении роли антропонимов в пространстве художественного текста, особенно в связи со способностью выражать авторские интенции. На фоне большого количества романных номинаций наиболее интересным является имя главного героя произведения, Александра Сергеевича Жилина, один из вариантов которого выполняет роль заглавия и смыслового центра. Антропонимикон персонажа представляет самостоятельную подсистему, компоненты которой концептуально антитетичны и полярно распределены между майором Жилиным и Асаном. Фамилия героя в связке с указанием на офицерское звание является формой самопредставления героя и знаком авторского отношения. Псевдомифологическое имя Асан обнажает связь крови и денег, обесценивая семантику защиты и отражая трагическую многоликость персонажа. Этому способствует и сложный повествовательный дискурс, где нарративные полномочия обретают имена героя, взаимодействующие с именами других персонажей. Помимо майора Жилина, Александрами зовут майора Хворостинина и генерала Базанова. Именной уровень романа подключен к кавказскому тексту русской литературы и нацелен на полемическое или новаторское прочтение традиции. Важным семантико-стилистическим приемом Маканина являются фонетические трансформации имени, которые подчеркивают рассогласованность обозначающего и обозначаемого, становясь важным оценочно-смысловым инструментом повествования.
Бесплатно
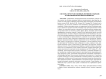
Система пространственных мотивов и образов в современной поэзии Челябинска
Статья научная
Современные литературоведческие исследования с каждым годом уделяют все большее внимание анализу художественного пространства, изучению его смыслового и образного наполнения. Как неоднократно подчеркивали многие ученые (М.М. Бахтин, Ю.М. Лотман, В.Н. Топоров, В.Е. Хализев и др.), литература - вид искусства, наиболее тесно связанный с пространственными категориями. Общим смысловым полем для современной поэзии Челябинска является сгущенность передачи местной атмосферы через пространственные мотивы и образы, их смысловое единство и связность ключевых аспектов описания города и региона (таких как экология, климат, флора, фауна, ландшафт, архитектура, периферийное положение города). В данной статье представлен анализ системы пространственных мотивов и образов современной поэзии Челябинска. Исследуются самые распространенные аспекты описания пространства города и региона, а также демонстрируется преемственность и развитие тех или иных пространственных моделей в трех поколениях современной поэзии Челябинска. Доминирующим пространственным образом современной поэзии Челябинска является образ города, что реализуется в обилии топонимики. В поэзии старшего поколения пространство Челябинска чаще изображается в серых, мрачных тонах, пробуждая ощущение тоски и безысходности, характерных при описании провинциальных локусов. Тема южноуральской природы становится общим смысловым полем для тех челябинских поэтов старшего поколения, которые продолжают традиции классической и советской поэзии (например, для Н.И. Годины, Н.А. Ягодинцевой). Точкой пересечения среднего поколения со старшими авторами служит восприятие и репрезентация городского пространства как провинциального: город предельно сужен, локализован определенными топонимами, связанными с геобиографией авторов. При описании челябинского пространства А. Самойлов и Я. Грантс наследуют эстетику минимализма и концептуализма. Актуальным для современных челябинских поэтов молодого поколения становится космополитичный лирический субъект, перемещающийся в интертекстуальном пространстве, которое объединяет множество локальных текстов культуры. Таким образом, челябинский локус делается лишь одним из множества мест пребывания лирического героя.
Бесплатно

Сказительская традиция синьцзян-ойратских джангарчи в ХХ веке
Статья научная
В последней четверти ХХ в. на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китая в результате полномасштабной экспедиционной работы китайских исследователей были открыты имена многих сказителей-джангарчи. Целью данной статьи является исследование сказительской традиции синьцзян-ойратских джангарчи в ХХ в. Достижение поставленной цели обусловлено решением следующих задач: выявить ареалы распространения и бытования синьцзян-ойратской сказительской традиции, проанализировать обстоятельства передачи и усвоения песен эпоса «Джангар». Материалом исследования являются тексты синьцзян-ойратской версии «Джангара», а также научные труды китайских и монгольских джангароведов. Рассмотрение бытования сказительской традиции ойратов Синьцзяна показало, что в ХХ в. эпос «Джангар» бытовал в шести этнических группах: хошутской, торгутской, олетской, чахарской, захчинской и урянхайской. Распространение сказительской традиции в большей части происходило в северных районах Синьцзяна. Наибольшее количество джангарчи были зафиксированы в пяти провинциях: Хобуксар, Рашаан, Нилх, Хеджин и Хошуд, а также в Техесе, Монгол хурэ, Хархусуне и Янжиде. Усвоение и передача эпических песен «Джангара» в большей степени происходили в семье, поэтому сказительская традиция синьцзянских ойратов имеет родовой характер. Многие синьцзян-ойратские джангарчи учились у своих отцов, дедов, дядей и братьев. Относительно небольшое количество джангарчи переняли эпические песни у своих матерей. Живая устная традиция «Джангара», бытовавшая в XIX в. среди синьцзянских ойратов, во второй половине ХХ в. наряду с существованием устной стала переходить в письменную. В 80-е гг. ХХ в. появились молодые талантливые джангарчи, стремившиеся сохранить и передать образцы уникального эпического памятника новому поколению джангарчи.
Бесплатно
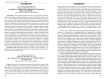
Сказки Г.Х. Андерсена в романе М. Петросян "Дом, в котором…"
Статья научная
Статья посвящена рецепции сказок Г.Х. Андерсена «Русалочка», «Снежная королева» и «Красные башмаки» в романе М. Петросян «Дом, в котором…». В тексте романа к сказкам Андерсена отсылают названия и цитаты, а также отдельные мотивы и образы. Обращение М. Петросян к традиции Андерсена обусловлено проблемой взросления, являющейся центральной как в романе, так и в сказках: героини всех трех сказок отказались от чувственности и страсти, сделав выбор в пользу душевной чистоты ребенка. С каждой сказкой Андерсена в романе соотносятся один или два героя, причем возможно сохранение аксиологической системы исходного текста либо ее переосмысление. Сохранение связано с персонажами, которые либо рефлексируют проблему взросления и сознательно выбирают отказ от возможностей взрослой жизни (Табаки), либо не рефлексируют, но своими поступками и мировосприятием совпадают со сказочной героиней (Лорд, Русалка). Переосмысление андерсеновской системы ценностей происходит в случае с Курильщиком: в художественном мире романа выбор традиционных морально-нравственных ценностей, в отличие от сказки, оказывается ошибочным. Аксиологическая инверсия обусловлена мистической природой Дома, в котором представления о добре и зле становятся относительными. Герой, не способный это принять, утрачивает преимущества ребенка, но не приобретает возможностей взрослого. Проведенный анализ позволяет уточнить существующее в научной традиции понимание Дома как пространства инициации. Дом является пространством детства, а переход во взрослую жизнь происходит в момент выхода из него.
Бесплатно
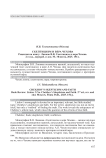
Статья научная
Монография В.Я. Линкова посвящена важной, актуальной, но мало изученной теме: скептицизму и вере А.П. Чехова. Для писателя скептицизм был не самоцелью, а только «методом» поиска истины. В работе раскрывается уникальность художественной задачи Чехова, поставившего вопрос о критериях истинной веры.
Бесплатно
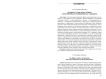
Скоморох Алексей Крученых: стихотворные посвящения Н.И. Харджиева
Статья научная
Статья посвящена рецепции образа Алексея Крученых как скомороха в стихотворениях Н.И. Харджиева. Проанализированы стихотворения «Звученых в чащобе.», «Дела виршеплетов - морока.» и «Чудовищный, но человечный.» из сборника «Крученыхиада». Среди других «амплуа» футуриста, предложенных Харджиевым в многочисленных посвящениях, образ скомороха выделяется ярко выраженной национальной окраской. В анализируемых текстах Харджиев создает аллюзии на поэтическое творчество и теоретические статьи будетлянина («Слово как таковое», «Стихомет Зудиссимо» и проч.). Также поэт проводит параллели между скоморошеством, волхованием и юродством. Эти три феномена объединяет экстатическое состояние вовлеченных в действие лиц. О подобном состоянии писал и сам Крученых в сборнике 1913 г. «Взорваль». Кроме того, интерес ближайшего окружения поэта-заумника (в частности, Владимира Маяковского и Романа Якобсона) к скоморошеству и вероятное знакомство футуриста с современными исследованиями, посвященными скоморохам (в первую очередь, монографией А.С. Фаминцына «Скоморохи на Руси» 1889 г.), позволяют предположить, что рецепция Харджиева была вызвана действительно существовавшей творческой маской скомороха самого Крученых. Национальное начало скоморошеского искусства, нашедшее отражение в рецепции Харджиева, имело большое значение и для Крученых. Скоморошеский образ (так же, как использование фольклорной зауми, архаизирующих неологизмов и народного стиха) был элементом древней поэзии, которую пытался возродить будетлянин.
Бесплатно

Славистические исследования в центральноевропейском контексте
Статья научная
В статье с опорой на идеи Р.О. Якобсона намечается один из путей изучения таких модификаций в славянских литературах, относящихся к центральноевропейской территории, которые были пережиты под воздействием дивергентных в отношении общеславянского наследия, но в центральноевропейском ареальном масштабе конвергентных языковых процессов. Исследование таких особенностей предлагается проводить на основе понятия «поэтики частного», которая, коренясь в характерных чертах центральноевропейского языкового союза, специфически отображается в художественном мышлении представителей центральноевропейской историко-культурной сообщности.
Бесплатно

Славянские переводы жития преп. Иоанна Лествичника (X-XIV и XVIII вв.) и их византийские источники
Статья научная
Статья посвящена описанию 6 переводов Жития преп. Иоанна Лествичника, 4 из которых являются раннеславянскими, а 2 выполнены в XVIII в. Оригиналами для этих переводов явились византийские версии текста: ранняя (вошедшая в т. 88 «Patrologia Graeca») и поздняя (опубликованная архимандритом Игнатием). Первый перевод Жития был выполнен не позднее второй четверти X века книжниками Преславской школы; второй перевод Жития выполнил в середине XIV в. тырновский монах Марк; третий перевод Жития был выполнен в начале второй половины XIV в. в сербской книжной среде; четвертый перевод был осуществлен на Афоне в это же время болгарским книжником Иоанном. Основой для первого и четвертого славянских переводов стала ранняя греческая версия, основой для второго и третьего переводов стала поздняя греческая версия. Не позднее начала 1780-х гг. новый перевод Жития выполнил преп. Паисий Величковский. Примерно в это же время в Москве над переводом Жития автора работал Д.Р. Ульянинский, состоящий на службе при Синоде. В статье приводятся примеры из названных оригинальных и переводных текстов Жития преп. Иоанна Лествичника. Выбор примеров определен потребностями исторической лексикографии русского языка: все они содержат лексемы, до сих пор не нашедшие отражения в исторических словарях русского и старославянского языков. Это лексемы дѹховьноглашениѥ, неприближаниѥ, несѹпротивьнословьникъ, обръщениѥ, оскѹжданиѥ, себѣвѣрьныи, себѣгодовыи, прѣждеѹморити, неизнемогыи, испытаньнѣ. Наблюдения над текстами этих переводов приводят к выводу о том, что самым близким к греческому тексту, с точки зрения его структуры и смысла, является перевод преп. Паисия Величковского.
Бесплатно
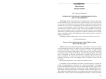
Слезы как способ истолкования рассказа "Дом с мезонином"
Статья научная
Данная статья предлагает интерпретацию чеховского произведения как выявление его сентиментального художественного кода. Автор исходит из следующего соображения: наше истолкование художественного произведения основано на том, что оно истолковывает нас. Растроганность читателя есть не что иное, как исполнение «слезной партитуры» текста, который представляет чувствительную версию человека и мира. В статье рассматриваются типы диалога, различия громкого слова и тишины как сентиментальных лжи и правды, особенности художественного пространства и времени в рассказе Чехова. Автор статьи, «заключая в скобки» философические споры героев, выявляет «слезную» природу произведения.
Бесплатно
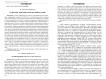
Словесные повторы в романе "Война и мир"
Статья научная
В статье анализируются аспекты повторяющихся слов «красивый», «прекрасный» в романе Л.Н. Толстого. Эти слова можно отнести к самым часто встречающимся в тексте писателя. Но мотивы использования этих повторов не совсем вписываются в контекст тех заданий, которые они призваны выполнять в художественной речи, где каждый элемент функционален и обусловливает, по признанию самого Толстого, художественную ценность произведения, которая, в свою очередь, отражается в ясности и определенности взгляда автора на жизнь. Как известно, языково-стилистические повторы в художественном произведении используются для формирования смысловых связей между отдельными фрагментами текста. Они осуществляют функцию герменевтических указателей, ведущих к постижению авторского замысла. Повторы в «Войне и мире», будучи преимущественно обнаженными, рождают ощущение не всегда объяснимых «нарушений». Иной раз трудно ответить на вопрос, какого добавочного смысла добивается автор. Между тем названный семантический материал, присутствующий в ткани текста, способен осветить художественный мир писателя с неожиданной стороны и корректировать распространенные мнения о ценностной точке зрения автора на изображенный им мир. Являются ли они результатом продуманной «небрежности», или же «спонтанного» авторского речевого поведения, - независимо от этого, словесные повторы актуализируют вопрос о языковых приемах писателя, которые, согласно задачам, сформулированным В.В. Виноградовым, нуждаются в том, чтобы объединить их в цельную концепцию повествовательной речи в романе.
Бесплатно
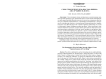
Слово героя в прозе отца Ярослава Шипова "Неслучайность всего"
Статья научная
Статья посвящена такому интересному и малоизученному явлению в русской литературе, как «приходская проза». В ходе анализа показывается, что проза иерея Ярослава (Шипова) относится к искусству, создающему образ бы-тия в его глубинной упорядоченности, в противовес индетерминизму и деструкции. В плане фактуры, сюжета и стиля рассказам Шипова предшествует деревенская проза. Отец Ярослав рисует быт и нравы в мрачных проявлениях, но уходит от «бичующей» сатиры, изображая человека как брата. Этому способствует: ком-позиция сборников и рассказов; художественное пространство; образ простодушного рассказчика, включенного в события, людей, которые его наставляют; мане-ра сказа, несобственно-прямая речь, парадокс и другие стилевые приемы. Ясные этические ориентиры создают впечатление простоты искусно устроенных произведений. Сказ и многоголосье позволяют показать человека в мире и обществе как часть целого. В литературе XXI в. получили развитие черты поэтики о. Ярослава: образ включенного рассказчика, имитация незамысловатого рассказа, сюжет, вы-являющий глубинные связи явлений; имеются реминисценции его сюжетов.
Бесплатно
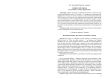
Слово и его образ: две заметки о поэтике Лермонтова
Статья научная
В работе выявлены два примера иконических элементов у Лермонтова (библейский подтекст в «Есть речи…» и анаграмма и межъязыковая интерференция в «Сказке для детей»), связанных со зрительной реализацией слова. В обоих случаях эти элементы носят характер автометаописания и ориентированы на соотношение текста и воспринимающей его аудитории. Указано на структурно близкий пример в чтении Лермонтовым «Штосса» в салоне Ростопчиной. В результате выявлено наличие сходных черт между разными произведениями в том, что касается структурной связи содержания и метатекстовых элементов. Это заставляет поставить вопрос о наличии таких взаимосвязей в поэтике Лермонтова в целом.
Бесплатно

Статья научная
В статье анализируется фрагмент романа Э. Бёрджесса «Заводной апельсин» с точки зрения используемых языковых средств создания динамической ситуации наблюдения (кинематографичности по И.А. Мартьяновой) в оригинале и переводах на славянские языки (русский, польский, украинский). Смена пункта наблюдения, сопровождающая смену планов и регистров повествования, в прозе выполняет функцию, аналогичную движению камеры в кино, придавая ей своеобразный кинематографический динамизм. Выбор предпочтительных форм субъективации в каждом из переводов определяется как внутриязыковыми особенностями оформления конструкций такого рода, так и переводческими стратегиями, нацеленными на перемещение пункта наблюдения в нарративе. Для перемещения фокуса повествования и создания кинематографического эффекта смены планов в интерпретационном переводном нарративе используются разные средства: различные формы обращения к читателям, изменение формы повествования - с перволичной на третьеличную, трансформация определенных, неопределенных или обобщенных личных форм глагола, а также изменение глагольного времени действия - с прошлого на настоящее. Дополнительная динамика создается благодаря чередованию акциональных глаголов и активных конструкций (с частноперцептивными глаголами звукового действия в безличной форме) с пассивными конструкциями (в том числе характерными для украинского и польского языков формами соответственно на -но, -то и -no, -to).
Бесплатно
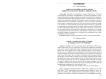
Смех рассказчика и смех автора в книге рассказов У. Льюиса "Дикая плоть"
Статья научная
Трактовке книги рассказов У. Льюиса «Дикая плоть» (1927) как одностороннего, нескладного и периферийного (в истории модернизма и творчестве автора) образчика жанра модернистского рассказа в данной статье противопоставлена интерпретация, акцентирующая цельность и диалогическую сложность комического содержания сборника. Рассмотрение смеха рассказчика в контексте теории комического, изложенной в вошедших в книгу эссе Льюиса, позволяет сделать вывод, что рассказчик выступает здесь не как носитель ценностей автора, и как предмет его неоднозначной критической оценки. Рассказчик, уверенный, что насмешка над механистической, «вещной» сущностью других обеспечивает ему более правдивое восприятие мира и самого себя, не замечает, что сам так же, как его герои, замещает действительность фетишами и ритуалами. Смех автора, не совпадающий со смехом рассказчика, приоткрывает в «Дикой плоти» автореф-лексивное измерение, несовместимое с поверхностной мизантропией, часто приписываемой рассказам Льюиса.
Бесплатно

Статья научная
В настоящей статье рассматривается поэтика стихотворений И.А. Бродского для детей. В художественном мире «детских» стихотворений поэта отмечаются черты, характерные для его «взрослой» поэтики: метафизический план, языковая игра, «удлиненные» строки, анжамбеман, вставные конструкции, реминисценции, прием «списков» и другие особенности. Одним из главных приемов «детской» лирики Бродского становится ирония, источником которой оказывается «многоплановость» этих поэтических текстов, их «двухуровневая» (по замечанию Я. Клоца) адресация. Иронию в «детских» стихотворениях Бродского можно рассматривать как отклик свободного сознания на реальность, комментарий к ее абсурдности, способ реализации внеавторитарного сознания поэта («Лева Скоков хочет полететь на Луну…», «Рабочая азбука»); кроме того, ирония становится способом игры с читателем («Кто открыл Америку»). Также в стихотворениях И.А. Бродского для детей в ироническом освещении дается автопортрет самого поэта; узнаваемыми оказываются некоторые факты его биографии – квартира «в переулке возле церкви», уход из школы, отсутствие работы («Самсон, домашний кот»). Особое внимание в статье уделяется образу кошек как одному из наиболее частотных в «детской» лирике Бродского: коты и кошки оказываются символами независимости и внутренней свободы («Самсон…», «Слон и Маруська», «Ария кошек»). Также в исследовании рассматривается включение в «детские» стихотворения «метафизического» плана («500 одеял», «Чистое утро»). Анализ этих произведений позволяет прийти к выводу, что стихотворения Бродского для детей являются не периферийными текстами, а важной и органичной частью его творческого наследия.
Бесплатно