Статьи журнала - Новый филологический вестник
Все статьи: 1787
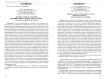
"Песня о соколе" в романе Евгения Клюева "Между двух стульев": к типологии абсурдистских текстов
Статья научная
В статье рассматриваются особенности использования дискурс-анализа для характеристики абсурдистского текста, построенного на приеме цитирования, на примере вставного текста из романа Е. Клюева «Между двух стульев». Дискурс-анализ представляется наиболее адекватной методологией для анализа текстов абсурда, где поверхностная структура текста может быть выведена только из глубинных семантических репрезентаций. Однако в ситуации с литературой абсурда можно говорить не просто о восхождении от языковых структур к поверхностным: только собственно языковой уровень позволяет рассмотреть процесс семантизации, т.к. на всех других уровнях смыслообразование блокировано. В статье доказывается невозможность восстановления нарратива без обращения к языковому анализу. Абсурдистский характер «Песни о соколе» Е. Клюева подтверждается и композиционным расположением: в романе все главы, кратные трем, завершаются вставными текстами фольклорного характера, которые, по мнению автора романа, являют собой образцы абсурда. Это как бы ставит знак равенства между фольклорными произведениями и хрестоматийно известным текстом Максима Горького. В результате того, что Горький оказался вписан в данный смысловой ряд, исходный текст начинает восприниматься в новом свете, приобретая при этом известную долю абсурда. Текст Максима Горького в романе Е. Клюева «Между двух стульев» достраивается до образцового абсурда, и этот абсурдистский текст не вписывается ни в какую известную классификацию вторичных текстов. По технике письма это центон: в произвольном порядке сочленяются фрагменты разъятого на части исходного текста. Однако центон предполагает цитирование, как минимум, двух источников. Это и не текст-«цитант», в котором приводится один чужой текст, вступающий в диалог с авторским текстом. Авторы статьи приходят к выводу о недостаточности классификации абсурдистских и вторичных текстов, которая может быть расширена за счет введения такого типа текста, как абсурдистская пародия, построенная исключительно на приеме комбинаторной игры.
Бесплатно

Статья научная
В статье рассматриваются документальные источники, которые помогли А.Н. Толстому построить сюжетную линию заговора против Петра I в третьей книге романа. Центральным источником для писателя стала работа Н.Я. Новомбергского «Слово и дело государевы» (1909), на что впервые указал А.В. Алпатов в монографии «Алексей Толстой - мастер исторического романа» (1958). «Слова и дела государевы» подсказали Толстому подробности частной жизни царевен Екатерины Алексеевны и Марии Алексеевны, обстоятельства их тайной переписки с Софьей Алексеевной. Материалом послужили имена реальных лиц, общие факты, слухи о царевнах. Кроме того, Толстой воспринимал разыскные дела как образец устной речи начала XVIII в., поэтому в некоторых случаях писатель вводил в текст романа цитаты из документов (о поездках царевен в Немецкую слободу). На примере небольшой сцены с допросом в Преображенском приказе удалось показать, что из разыскных дел, опубликованных Новомбергским, Толстой взял биографические сведения реального лица (костромского попа Григория Елисеева), ряд цитат из травника XVIII в. Следственные дела Толстой изучал не только по публикациям Новомбергского, он также использовал материалы о раскольниках Григории Талицком, Самуиле Выморкове из исследований Г.В. Есипова «Раскольничьи дела XVIII в.» (1861), М.И. Семевского «Слово и дело! 1700-1725» (1885), С.В. Соловьева «История России с древнейших времен» (1911). Указанные книги сохранились в личной библиотеке писателя с многочисленными подчеркиваниями и пометами.
Бесплатно
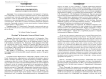
"Пироскаф" Боратынского: жанровый и метрический контекст
Статья научная
Статья посвящена рассмотрению стихотворения Е.А. Боратынского «Пироскаф» в его метрическом и жанровом контексте. Анализ формальной и содержа-тельной структуры «Пироскафа» позволяет увидеть в нем значимые переклички с ода-ми Г.Р. Державина, балладой В.А. Жуковского «Суд Божий над епископом», а также произведениями П.А. Катенина, А.П. Беницкого и других поэтов конца XVIII - начала XIX вв. Сложное соотношение разнородных жанровых элементов «Пироскафа» позволяет уточнить представление о жанровой природе поздней лирики Е.А. Боратынского.
Бесплатно
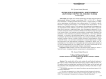
"Племя жен мужепохожих": воительницы и андрогины в творчестве Любови Столицы. Статья вторая
Статья научная
Во второй статье цикла производится мотивно-сюжетный анализ произведений Любови Столицы о воительнице 1909 г. и 1914-1917 гг. Выявляются связанные с этой фигурой константные топосы, с одной стороны, и особенности, характерные для трактовки этого образа именно Л. Столицей, с другой. Показано, что фигура воительницы у этого автора весьма неоднозначна - и чем дальше, тем в большей степени. Если в ранних стихотворениях доминировал модус восхищения силой, свободой, удалью таких героинь (хотя само их существование было отнесено к мифологическому или легендарному прошлому), то постепенно авторская позиция становится амбивалентной. Воительницы предстают и как чистые девы, и как ужасные мстительницы, уподобленные Эриниям. Все связанные с ними жизненные (и сюжетные) возможности, в том числе противоположные - и поединок с возлюбленным врагом, и отказ от насилия, - приводят к одинаково трагической гибели воительницы, сама натура которой будто бы препятствует земному счастью и любви. Особую сложность демонстрирует «Песнь о Золотой Олоне», где достигается контрапункт полюсов (Брунгильда и София, мир языческий и мир христианский, матриархат и патриархат). Кроме того, демонстрируется, что в творчестве Столицы фигура воительницы может освещаться и в таком нехарактерном для этого образа модусе, как модус комический, как это происходит в сценической миниатюре «Зеркало девственниц».
Бесплатно
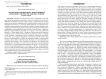
"Племя жен мужепохожих": воительницы и андрогины в творчестве Любови Столицы. Статья первая
Статья научная
В первой статье двухчастного цикла, посвященного исследованию образов воительницы и андрогина в творчестве полузабытой поэтессы Серебряного века Любови Столицы, ставится вопрос о воительнице как гендерно неоднозначной фигуре, апроприирующей традиционнейшую маскулинную роль патриархатной культуры, т.е. роль воина. Демонстрируется, что в творчестве Столицы воительница появляется многократно и в разных обличьях (амазонки, богиня Афина, русские богатырки, Жанна д’Арк, воительницы времен воображаемого «матриархата», амазоноподобные дивы в «Песни о Золотой Олоне», «девица-доброволец» Первой мировой). Доказывается, что наряду с «женской» андрогинной фигурой у Столицы присутствует и «мужская», причем константной сюжетной ситуацией является любовь ангелоподобного женственного юноши и «мужепохожей» женщины. Анализируются такие особенности творческого мира Любови Столицы, как гендерные перевертыши и понимание женской роли как роли сильного. Устанавливается, что образ воительницы возникает в произведениях Столицы в связи с тремя основными темами. Во-первых, это «женский вопрос» и рефлексия писательницы о месте и возможностях женщины, по ее мнению, явно недооцененных. Во-вторых, это тема женского творчества и женской авторской субъектности, т.е. автометарефлексивный контекст. В-третьих, это утопически-эсхатологическая проблематика: вслед за А. Блоком и А. Белым - двумя важнейшими для Столицы представителями русского символизма, писательница репрезентирует воительницу как одно из воплощений Мировой Души, Софии, спасающей мир, чей образ восходит к гностическому мифу.
Бесплатно
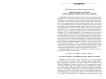
"Портрет" Н.В. Гоголя как этический код творчества для К. Кинчева
Статья научная
В статье рассматривается повесть Н.В. Гоголя «Портрет», которая трактуется как «этический код» творчества для К. Кинчева. Последовательно анализируются лингвосемантический и этический пласты данного произведения, в результате чего выявляются фундаментальные принципы любого творческого акта. В статье реконструируется семантика названия повести Н.В. Гоголя «Портрет», способствующая раскрытию этического портрета самого автора, в котором воплотились его религиозно-философские искания. Делается акцент на том, что для понимания истиной природы творчества важны оба варианта издания повести (1835 и 1842 гг.), которые, представляя собой полноценные произведения, отражают этическую динамику взглядов автора на сущность искусства. Если в «Портрете» 1835 г. в образе Черткова Н.В. Гоголь стремится воплотить сущность художника, моральное сознание которого не способно в полной мере противостоять преследующим его силам зла, то во второй редакции повести автор изменяет имя главного героя. В результате художник Чертков превращается в Чарткова, что является важным свидетельством трансформации «когнитивно-прагматический программы» писателя, за которой стоит изменение собственно этической позиции автора. Сравнивая гоголевские варианты «Портрета» и этапы творческого пути К. Кинчева (песни 1985-1994 гг. и 1995 - до настоящего времени) делается вывод об универсальных закономерностях, присущих творчеству, в основании которого лежат этические коллизии (свет / тьма, Бог / Дьявол, самообожествление / служение Истине), вне разрешения которых невозможно подлинное искусство.
Бесплатно
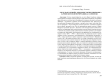
"Поэт, как таковой": образ константы Ильдефонса Галчинского в интерпретации Д. Самойлова
Статья научная
В статье демонстрируется, как поэт Давид Самойлов, опираясь на мемуарные источники польских авторов и собственные переводы, выстраивает образ польского поэта Константы Ильдефонса Галчинского как своего «польского двойника» - подлинного художника, поэта моцартианского типа. Трактуется он как свободный, бескорыстный художник, у которого отсутствует поза гения. Высшее его призвание - «быть свободным уличным артистом», способным одаривать всех музыкой, звучащей в нем. Ряд его характеристик прямо отсылает к образу Моцарта в маленькой трагедии А. Пушкина. Свою интерпретацию Самойлов подкрепляет, устанавливая также типологическое сходство между польским поэтом и А. Блоком. Исследовательской задачей видится описание значимых для Самойлова творческих ориентиров, обусловленных выстраиваемой им литературной позицией в конце 1950-х - 1960-е гг. Выполненные им переводы вошли в первую подборку стихов Галчинского, опубликованную в «Иностранной литературе» в 1956 г. и были включены в первое отдельное издание Галчинского «Варшавские голуби» 1962 г. Во второй половине 1960-х гг. интерес Самойлова к поэзии и личности польского поэта заметно возрастает. Во втором русском сборнике Галчинского «Стихи» (1967) Самойлов, наряду с новыми переводами, публикует новые редакции своих ранних переводов. Здесь он становится и автором вступительной статьи «Константы Ильдефонс Галчинский», а годом ранее пишет стихотворение «Соловьи Ильдефонса-Константы». В отборе и интерпретации фактов биографии и литературного пути Галчинского проявляется важное для самойловской концепции творчества второй половины 1960-х гг. положение о «сопереживании», которое из-за совпадения взглядов и чувствований творцов становится личным «переживанием». В целом эстетические принципы Галчинского воспринимаются Самойловым как образец социокультурного поведения, отвечающего его собственным представлениям о творчестве и истинном творце.
Бесплатно
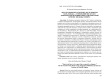
Статья научная
На обширном материале творчества З.Н. Гиппиус эмигрантского периода (публицистика, литературная критика, автодокументальные тексты) впервые дается обзор взглядов автора (в их динамике) на призвание русского писателя и его этическую ответственность за судьбы России и Европы. После 1917 г. понимание призвания писателя у Гиппиус во многом совпадало со взглядами радикальной части русской диаспоры, которая считала одной из важнейших задач эмигрантов не только сохранение культурной традиции, но и возрождение России. Подобно Д.С. Мережковскому, И.А. Бунину или Д.В. Философову, Гиппиус воспринимала эмиграцию как призвание и историческую миссию, полагая, что литература и ее создатели - это ключевой фактор в процессе формирования культурной и национальной идентичности. Литература в понимании Гиппиус была связана с историческим процессом, поэтому эмигрантские писатели, которых она считала «хранителями истины и подлинных ценностей», должны были, по ее мнению, участвовать в освобождении России. Гиппиус акцентировала вопрос об их гражданской ответственности и активности не только в культурной, но и в общественной жизни. Она не принимала индивидуализм и субъективизм писателей (концепция «чистого искусства»). Характерной чертой эмигрантской критики Гиппиус стал особый интерес к идейному уровню произведений, а ее оценки писателей часто определялись их мировоззрением и политическими взглядами. Публицистика, литературная критика и автодокументальные тексты Гиппиус свидетельствуют о том, что определения «настоящий писатель» и «настоящий человек» были для писательницы синонимичными, особенно в тех случаях, когда литератор чувствовал себя ответственным не только за свое слово, но и жизненный выбор.
Бесплатно

Статья научная
Целью статьи является введение в научный дискурс нового понятия, имеющего категориальное значение для понимания (жизне)творческого пути художника слова. Понятие «проекционное поле СЯЛ» создано в рамках авторского метадисциплинарного теоретического комплекса «когнитивная гуманитарная семиотика» (СТ (синтетический текст) - СЯЛ (синтетическая языковая личность) - КПП (когнитивно-прагматическая программа)). СЯЛ художника слова выстроена вокруг его КПП - ведущей стратегии автора-творца, фактически «основного закона» его пути. СТ, создаваемый СЯЛ, при этом может мыслиться двояко: в узком (уже вошедшем в научный оборот) смысле; в широком смысле как все пространство жизни и творчества художника слова, где ощутимо трансформационное воздействие его КПП, но где СТ не явлен определенно или вызывает трудности при определении. Это и есть «проекционное поле СЯЛ». Так, универсальность лермонтовской реакции на мир как краеугольное свойство личности приводит к варьированию и в жизни, и в творчестве одной и той же коллизии. Всё время продуцируется ведущий личностно-психологический эстетически оформленный код, для которого граница вербальной и невербальных зон не является абсолютной. Этот код имеет когнитивную природу, полигенетичен и полиморфен, оформлен в сфере литературного творчества, но реализуется везде. Мы не можем назвать весь «мир Лермонтова» четко определенным СТ - но мы отчетливо видим проекционное поле его СЯЛ, т.е. идущую из центра «матричную» кодировку этого мира через романтико-демонического субъекта. Проекционная направленность пушкинской СЯЛ совершенно иная: литература в тесном контакте с жизнью становится лабораторией жизненных вариантов, а СТ столь масштабен и «жизнеподобен», что не охватывается снаружи единым аналитическим взглядом. «Проекционное поле» пушкинской СЯЛ выступает как грандиозный «мимесис» «строителя чудотворного», пытающегося вместе со строящимся «литературным государством» многообразно проектировать и собственную судьбу - в лирике, драматургии, прозе, переписке, черновиках. Это одновременно «поэзия действительности» и многовариантный жизнетворческий эксперимент. Таким образом, исследуемое понятие показывает внутреннее системное единство гетерогенного и гетероморфного пространства жизни художника слова, на котором реализует себя его доминантная КПП.
Бесплатно

"Прометей. Медитация" Томаса Мертона и "Доктор Живаго" Бориса Пастернака: диалог идей
Статья научная
Цель настоящей статьи - показать идейную связь двух разноплановых текстов, принадлежащих одной эпохе, а именно поэмы в прозе «Прометей. Медитация» американского монаха Т. Мертона и романа классика советской литературы Б. Пастернака «Доктор Живаго». В статье показано, как фигура Прометея в версии Гесиода, трактуемая Мертоном как знак психологической ситуации, в которой находится современный человек, отображается в некоторых персонажах «Доктора Живаго» (Стрельников, Микулицын, Дудоров и Гордон), а фигура Прометея в эсхиловской версии, понимаемая Мертоном как прообраз Христа, - в образе Юрия Андреевича Живаго. Мертон и Пастернак выделяют главное качество человека - способность отдавать себя другим. В статье показаны две противоположные модели поведения человека, в основе которых лежит идея проявления личной воли или отказа от нее, воплощенные в романе Пастернака, и соответствующие им поведенческие модели, представленные в эссе Мертона. Центральный герой романа, Юрий Живаго, - поэт, который приносит свою жизнь в жертву ради божественного дара поэзии. Так же приносит свою жизнь в жертву эсхиловский Прометей. Зоной идейного сближения двух авторов - Пастернака и Мертона - является понимание человека как проводника божественного дара. Эта тема находит отражение также в поздней лирике Пастернака. Роман «Доктор Живаго» идейно обогащает концепцию Мертона, показывая, что человек может отдавать себя людям, служа искусству. Поэтическое вдохновение Юрия Живаго - аналог божественного огня, полученного в дар Прометеем. Данное исследование в теоретическом плане опирается на идею М.М. Бахтина о диалогической встрече двух сознаний в гуманитарной сфере. В рамках настоящей работы пересечение взглядов Т. Мертона и Б. Пастернака рассматривается в контексте осмысления личностью феномена жизни как дара. Новизна работы обусловлена отсутствием исследований, в которых богословие Мертона сопоставлялось бы с христианской концепцией Пастернака.
Бесплатно
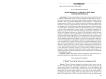
"Пропущенное" событие в действии современной пьесы
Статья научная
В статье рассматриваются стратегии создания событийного ряда в действии современной пьесы. В качестве материала представлены тексты, в последние несколько лет прочитанные на фестивале молодой драматургии «Любимовка». Одна из тенденций, обращающих на себя внимание, - использование «пропущенных» событий, то есть событий, которые исключаются из фабулы произведения, становятся подразумеваемыми. Как правило, ими оказываются события, связанные с психологическим или физическим насилием. Если представители «новой драмы», возникшей в 1990-е годы, фиксировали реальность, показывая в пьесах самые неприглядные стороны жизни, то сегодняшние драматурги обращаются к другим методам. Они либо намеренно пропускают «страшные» события, либо скрывают значение этих событий, либо заменяют события другими, которые в структуре текста воспринимаются как аналогичные. В связи с этим создается особого рода конфликтность, когда драматические герои втягиваются в противостояние помимо собственной воли и оказываются неспособны сопротивляться внешним воздействиям. Конфликт в таких пьесах симулятивен, чаще всего он остается неразрешим, но драматурги предлагают альтернативные способы выхода из конфликтных ситуаций. Именно поэтому в новейшей драматургии возникают сюжеты, рассказывающие о последствиях событий, а не заканчивающиеся, например, смертью героя, как это было в пьесах «новой драмы». Последствия, то есть то, как персонажи действуют в дальнейшем, становятся важнее, чем то, что с ними произошло. Поскольку интерес к частной жизни человека по-прежнему находится в фокусе внимания современных авторов, можно предположить, что подобные стратегии построения драматургического действия будут востребованы и в ближайшем будущем.
Бесплатно
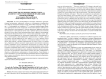
Статья научная
В статье рассматриваются некоторые особенности пространственной организации лирического события в стихотворении петербургского поэта Виктора Гейдаровича Ширали (1945-2018) «Меня напротив в поезде метро.». Стихотворение это, созданное в 1972 г., относится к ранней лирике Ширали и характеризуется весьма интересным соотнесением внешнего события (случайно увиденное лицо женщины) и события лирического (рефлексия субъектом произошедшего) в пространстве вагона метро. Особенно пристальное внимание уделяется в статье двум стихам, расположенным ближе к финалу стихотворения: «Пространство беспрепятственно текло // Сквозь наши отражения в стекле». Данные стихи рассматриваются как экспликация микрособытия, объединяющего в себе, с одной стороны, событие фабульное, «происшествие», «случай», с другой же стороны, событие рефлексии по этому поводу, т.е. то, что и принято считать лирическим событием. Таким образом, в стихотворении Ширали в итоге получается такое событие, в котором «происшествие» не повод к нему, а его важная часть. Лирическое событие выступает знаком важного качественного изменения субъекта, увидевшего, пусть и расплывчато, бестелесную суть самого себя. Для всего этого человек должен был оказаться в состоянии пассивного покоя, способствующего созерцанию мира и себя в этом мире. В обозначенном синтетическом событии текучести пространства сквозь отражения субъектом действия оказывается само это пространство, лирический же субъект выступает одновременно и объектом, и наблюдателем, находящимся в этом пространстве. Таким образом, в статье доказывается, что пространственная организация события в лирике может быть и самим этим событием, причем событием именно лирическим, формирующим лирический сюжет.
Бесплатно

"Прямое искажение слов цитируемого писателя.": о двух фельетонах С. Смирновой
Статья научная
Полемика между «Новым временем» и «Речью» в ноябре 1909 г. рассматривается в статье на материале публикаций Д. Мережковского, В. Розанова, С. Смирновой и К. Аггеева. Устанавливаются причины, по которым Смирнова вступила в полемику Мережковского и Розанова, анализируются характерные для «Нового времени» «сигналы» в ее фельетонах, по которым читатель из низового слоя культуры ощущал принадлежность к «своим». Газетная перекличка между Мережковским и Розановым осмыслена как один из эпизодов их многолетнего диалога. Обсуждение ими культуры, религии, пола, Ветхого Завета, святой плоти, восточных мистических учений не было тривиальным, зависело от собственного развития каждого из них, хотя нередко осложнялось личными столкновениями. Несмотря на несогласие с Мережковским, Розанов вел полемику уважительно, приводил убедительные аргументы, излагал их образно, сложно, иронично. Но когда в их диалог, наполненный взаимными отсылками и понятными обоим смыслами, включилась Смирнова, она вынужденно редуцировала и упрощала их для читателей «Нового времени». Смирнова хорошо понимала образ мыслей своего адресата и объясняла ему искания образованной публики просто и доступно. Уклоняясь от полемики по существу, Смирнова переходила на личности, использовала клише, позволявшие ей поддерживать образ врага, чертами которого были образование, симпатии к Западу, пренебрежение к православной церкви, критика властей, определенная национальность. Смирнова потакала темным инстинктам, разжигала ненависть к иноверцам и интеллигентам и вносила свой вклад в радикализацию взглядов читателей.
Бесплатно
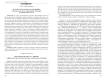
"Рассказ о рассказе" В. Маканина: событийная коллизия, нарративная структура, архитектоника смысла
Статья научная
В статье осуществляется целостное рассмотрение одного из ранних рассказов В. Маканина. Выбор материала для анализа обусловлен тем, что данный текст чрезвычайно оригинален по своей нарративной структуре, но при этом никогда не становился предметом детального и всестороннего разбора. Преимущественное внимание автора статьи сосредоточено на трех аспектах: сюжетном, нарратологическом и семантическом. Рассматриваются событийная специфика сюжета и повествовательные стратегии автора. Выявляются и описываются субъектные инстанции, из сложного взаимодействия которых рождается смысловая «интрига» произведения. Полемически отталкиваясь от распространенных упреков В. Маканину в «игре на понижение» нравственной планки в оценке современного человека, автор статьи на материале отдельно взятого текста демонстрирует сложность и нелинейность аксиологических интенций писателя. Именно анализ нарративной структуры рассказа позволяет сделать вывод о том, что безнадежно-скептический, духовно-редукционистский взгляд на человека (приписываемый зачастую самому писателю) реализуется лишь как одна из составляющих аксиологического спектра, присутствующего в анализируемом произведении. Выполненные аналитические процедуры и сделанные наблюдения дают возможность констатировать, что «Рассказ о рассказе» В. Маканина являет собою открытую семантическую конструкцию, опирающуюся на вероятностную картину мира и предполагающую активную роль читателя в процессе смыслообразования.
Бесплатно
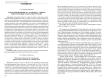
"Роман одной жизни" В.С. Баевского - лиризм повествования в мемуарном романе
Статья научная
Мемуарный роман В.С. Баевского вобрал в себя ранее опубликованные автобиографические повести и очерки. При этом «Роман одной жизни» является единым мнемоническим повествованием, в центре которого - образ ученого. «Роман одной жизни» - автобиографическое повествование, объединяющим стержнем которого служит образ нарратора и его история. Автобиографический повествователь связывает все уровни мнемонического текста, т.к. объединяет в себе конкретного автора, рассказчика и героя. Повествование мемуарного романа реализует нарративную стратегию жизнеописания, а вероятностная картина мира складывается из описания реальных исторических событий и испытаний, которые преодолевает герой. В романе создается время памяти, где прошлое не только неразрывно связано с настоящим, но и продолжается в нем. Центром нарративной стратегии является нарратор. В мемуаристке в образе нарратора объединяются категории конкретного автора, «я» - повествуемого и «я» - повествующего. В «Романе одной жизни» история и образ нарратора формируются на основе личных документов: дневник автора и переписка с поэтами и учеными. Авторская установка на документальность истории свидетельствует также об объективизации повествования. Несмотря на автобиографизм, стилистически повествование строится на дистанцировании нарратора от конкретного автора. Одна из самых важных составляющих образа нарратора в «Романе одной жизни» - попытка ухода от эгоцентричного повествования, свойственного для автобиографии. Доминантной чертой нарратора становится лирическое начало, ощущение себя как поэта-лирика.
Бесплатно
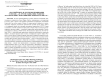
Статья научная
В статье рассматриваются путевые заметки итальянской писательницы и журналистки Анны Марии Ортезе, посвященные ее путешествию в СССР в 1954 г. Ортезе стала первым итальянским литератором, посетившим Советский Союз после смерти Сталина. Ее очерки резко отличаются от многочисленных образцов итальянской просоветской путевой прозы начала 1950-х гг. и открывают новый этап в истории итальянских травелогов об СССР. Одним из значимых отличий становится возрождение в очерках Ортезе элементов так называемого «русского мифа» - комплекса стереотипных представлений о России, сложившихся на Западе в XVIII-XIX вв. В итальянских травелогах об СССР начала 1950-х гг. «русский миф» практически полностью вытесняется «советским мифом», достигшим расцвета при Сталине, и возвращение старого «мифа о России» в текстах Ортезе становится ярким симптомом готовящихся перемен в политической и духовной жизни советского общества. Однако если остальные отличительные черты путевых заметок писательницы - отказ от идеологических штампов, перенос фокуса внимания с общества на индивида, с социального анализа на личное общение, подчеркнутая субъективность и концентрация на внутреннем мире автора - находят свое продолжение в итальянских травелогах об СССР второй половины 1950-х гг. (К. Леви, П. П. Пазолини, К. Малапарте, А. Моравиа), то ренессанс «русского мифа» в очерках Ортезе остается единичным примером. Даже в условиях хрущевской «оттепели» и десталинизации образ СССР в глазах итальянских литераторов по-прежнему будет определяться «советским мифом», уходящим корнями в сталинскую эпоху.
Бесплатно
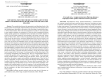
Статья научная
Противоречие между репрезентативными и идеологическими задачами социалистического реализма всегда решалось благодаря жесткому устройству повествования и топики, восходящим к моделям утверждения власти в драме классицизма. Но в произведениях, рассчитанных на бытовое или комическое восприятие, использовалась более сложная техника, в которой противоречие между чувством и долгом выступало как противоречие между наррацией и функцией зеркала. Пример такой техники мы находим в литературном творчестве и литературной теории Виктора Ардова. Ардов настаивал на воспитательной функции комедии и цирка, при этом ключевое положение о возможности полной идеологизации старых цирковых сцен не подтверждено примерами и оставляет впечатление недосказанности. Но не поясненная мизансцена, не войдя в теорию этого автора, вошла в его практику как канонического автора соцреализма: сценарий фильма «Светлый путь» и поздняя комическая сцена «Глухонемой» представляют собой практическую реализацию этого принципа, опередившую его теоретическое осмысление. Сопоставление сценария «Светлый путь» не только с сюжетом сказки Шарля Перро «Золушка», но и с теоретической позицией Шарля Перро в истории французского классицизма позволяет уточнить, с опорой на учение Лакана о «стадии зеркала» и на достижения искусствоведческой иконологической интерпретации пространства кадра, специфику «миметической зеркальности» в классицизме и соцреализме как определенного разрыва нарратива, который при этом только и позволяет действию обрести настоящее правдоподобие и убедительность. Тем самым, список приемов, создававших правдоподобие в классицистской и соцреалистической драматургии следует дополнить этим изначально цирковым приемом, а также уточнить канон соцреалистической организации связки нарратив-эмоция-правдоподобие, соответствующей лакановской связке реальное-символическое-воображаемое, доказав, что этот канон не является достоянием специфически триумфалистской пропаганды сталинского времени, но благодаря высокой жанровой универсальности советского комического продолжается и в более поздней советской литературе.
Бесплатно
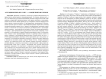
"Сегодня ночью, не солгу...": Мандельштам и Чехов
Статья научная
Проблема «чеховских» подтекстов в лирике Мандельштама, на первый взгляд, представляется трудноразрешимой. Это связано, прежде всего, с тем, что общие контуры мандельштамовской рецепции творчества Чехова слабо очерчены и порождают противоположные точки зрения, колеблясь от идеи непризнания поэтом опыта Чехова-драматурга до осторожных попыток выявить более полно картину немногочисленных и противоречивых высказываний Мандельштама о Чехове. При этом вопрос о разнообразных формах творческого усвоения чеховской традиции в лирике поэта - прямых, опосредованных, имеющих схожий генезис и типологию или свидетельствующих об избирательном и целенаправленном освоении - пока серьезно не поставлен. Между тем можно предположить, что наряду с ярко проявленными классическими подтекстами, например, «пушкинским» и «гоголевским», в лирике Мандельштама присутствуют и «чеховские» ноты. Авторы статьи предпринимают попытку на примере анализа одного из самых «странных» стихотворений Мандельштама «Сегодня ночью, не солгу.» (1925) продемонстрировать некоторые точки пересечения двух столь разных художников. В стихотворении выявлены сюжетные и образно-мотивные параллели с эпизодом на постоялом дворе в повести Чехова «Степь». Авторы выдвигают гипотезу, что переклички могут быть вызваны единым генезисом сюжетных и мотивно-образных элементов, восходящих к архетипической и фольклорно-мифологической топике дома у дороги и колдовской избы. Однако пристальное сравнение показывает, что существуют и переклички конкретных художественных элементов в их системной связи. При этом те линии полигенетичного подтекста стихотворения, которые восходят к повести «Степь», помогают увидеть не слишком очевидные параллели двух текстов, выходящие за пределы эпизода на постоялом дворе в повести Чехова и за пределы изучаемого стихотворения Мандельштама. Сделана попытка увидеть черты сходства в самой художественной концепции русской жизни.
Бесплатно
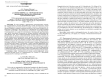
"Селение Винчи" Д.С. Мережковского: трансформации текста от эгодокумента к художественной прозе
Статья научная
В статье впервые с привлечением документальных источников устанавливается реальная биографическая основа малоизвестного очерка Д.С. Мережковского «Селение Винчи», который не входил в прижизненные авторские сборники и собрания сочинений писателя и был создан во время его совместного путешествия с З.Н. Гиппиус и А.Л. Волынским «по следам Леонардо да Винчи» весной 1896 г. Документальная достоверность очерка Мережковского подтверждается на основе его сопоставления с мемуарными свидетельствами двух других участников путешествия по четырем аспектам (событийный ряд, упоминаемые лица, детали пейзажа/интерьера, описательные и оценочные характеристики). В процессе сопоставительного анализа внимание уделяется не только обнаруженным совпадениям между данными текстами, но и различиям. В исследовании также предпринят детальный текстологический анализ очерка Мережковского, в результате которого в полном объеме раскрылся его художественный потенциал как подготовительной работы для романа «Воскресшие боги (Леонардо да Винчи)». Наибольшее сходство романа с очерком обнаруживается на стилистическом уровне: в построении, а также словесном оформлении интерьерных и пейзажных описаний. При этом комментируется имманентный характер выявленных трансформаций текста на пути от эгодокументального жанра к художественной прозе. В заключение делается вывод, что в случае Мережковского перенесение собственных мыслей и чувств на литературного героя происходило не механистически, а художественно осмысленно и эстетически продуктивно.
Бесплатно
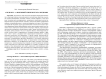
"Среди роз...": фронтовой элизиум Булата Окуджавы
Статья научная
Актуальность темы статьи как в историко-литературном аспекте, так и общетеоретическом плане определяется постоянством запроса на осмысление судьбы традиционных поэтизмов, топосов, «вечных образов» (в том числе розы, элизиума, рая) в разновременных, меняющихся литературных контекстах. Перспективность флористической тематики засвидетельствована современным мировым литературоведением и междисциплинарными штудиями. Исследователи творчества Окуджавы, будучи представителями относительно молодого научного направления, решают разнообразные задачи, среди которых важное место занимает анализ лирических произведений и конкретных образов, репрезентирующих константы авторского художественного мира. Таковы многочисленные розы Окуджавы, принадлежащие к числу его заветных образов, символизирующие наследие «золотого века» в современности. Окуджава неизменно прибегал к формуле «стихи о розах», декларируя свою литературную независимость, отрицая советскую идеологему «поэт-гражданин». С другой стороны, классический поэтизм в лирике Окуджавы мог подвергаться парадоксальному переосмыслению, выполнять «остранняющую» функцию. Вниманием к этой стороне лирического мышления Окуджавы обусловлен выбор для рассмотрения стихотворения «Из фронтового дневника», где метафорическая роза играет ключевую смыслообразующую роль: «колючие ржавые розы» (взрывы на поле боя) предстают цветами смерти; сквозной мотив «цветения» превращает их в атрибут сумеречных полей элизиума. Опыт прохождения через смерть определяет экзистенциальную проблематику лирики Окуджавы. Текст анализируется в избранном ракурсе впервые.
Бесплатно

