Проблемы калмыцкой филологии. Рубрика в журнале - Новый филологический вестник

Мотив богатырского поединка в синьцзян-ойратской версии "Джангара"
Статья научная
АВ статье рассматривается мотив богатырского поединка в песнях синь- цзян-ойратской эпической традиции «Джангара». Материалом исследования являются тексты песен синьцзян-ойратской версии «Джангара», опубликованные в Китае в 1986-2000 гг. на ойратской письменности «тодо бичиг» («ясное письмо»), переложенные на калмыцкий язык Б.Х. Тодаевой. Рассмотрение песен синьцзян-ойратской версии эпоса «Джангар» показало, что мотив богатырского поединка в песнях строится из последовательных повествовательных единиц. Мотив богатырского поединка в «Песне о том, как двухлетний Хошун Улан впервые отправился в поход» имеет характерные для устной традиции монгольских народов структурные элементы: 1) удары плетью; 2) ответный удар противника мечом; 3) нанесение ударов лбами-головами; 4) нанесение ударов грудью-головами; 5) отрывание друг у друга кусков мяса; 6) бросок противника оземь; 7) нанесение ударов противнику; 8) придавливание ребер противника; 9) связывание конечностей противника; 10) вспарывание кинжалом живота противника; 11) навьючивание противника поперек седла. В изображении героического подвига богатырей Хонгора и Хошун Улана присутствуют архаические мотивы (волшебные предметы, внешняя душа, мировое дерево Галбар Зандан и др.), унаследованные из ранних форм эпоса. Сюжеты песен о богатырских подвигах в борьбе с внешними врагами бумбайской державы показывают, что синьцзян-ойратская версия «Джангара» имеет прочную связь с архаическим эпосом, насыщена сказочными мотивами и мифологическими персонажами.
Бесплатно

Мотив верхнего мира в калмыцких волшебных сказках
Статья научная
Мотив верхнего мира в калмыцких волшебных сказках связан с архаическими представлениями о трехмирии. Верхний мир (деед / деедин орн) в сказочной традиции народа предстает как место обитания небожителей, возглавляемых Хурмуста тенгрием. Данный теоним проник в традиционную культуру народа через согдийцев и уйгуров, являет собой видоизмененное имя верховного божества иранского пантеона Ахура Мазда, Ормазд. По мнению С.Ю. Неклюдова, представление о главе тенгриев возникает в русле раннего буддийского влияния не позднее XV в. «как слепок с мифологического образа буддийского Индры и его окружения». Дочери Хурмуста тенгрия отправляются в мир людей, чтобы искупаться в водах озера в калмыцких волшебных сказках на сюжетные типы АТU 465 А «Мужчина преследуется из за своей красивой жены» и ATU 508 «Благодарный мертвец». В сказках отражается связь небожителей с дочерями ханов - правителей нутуков кочевий среднего мира. Тенгрий небожитель женится на дочери хана в сказках на сюжет АТU 400 «Муж (жена) ищет исчезнувшую жену (мужа)». После нарушения запрета он превращается в лебедя и возвращается в верхний мир. В облике лебедей небесные девы в калмыцких волшебных сказках спускаются на землю, чтобы искупаться в водах озера (колодца). Согласно традиционным народным представлениям, лебедь наделяется функцией медиатора между мирами. Тезис В.Я. Проппа о «солнечности» иного мира и всего с ним связанного подтверждается на калмыцком сказочном материале. Так, лики сказочных героинь - представительниц верхнего мира - излучают сияние. Описание сказочных красавиц - небесных рагни - традиционной формулой красоты герлднь аду манм, гегәнднь үүл бәрм (в свете ее можно стеречь табун, в сиянии ее можно вышивать) представляет их светоносными персонажами. Связь небожителей с солнцем можно отметить и в их атрибутах - золотое кольцо (алтн билцг), золотой гребень (алтн сам), желто пестрый платок (шар цоохр альчур). Отметим, что желто пестрый цвет по традиционным представлениям калмыков связывается с цветообозначением солнца, а его пестрота отражает темные пятна на светиле.
Бесплатно

Мотив нижнего мира в калмыцких волшебных сказках
Статья научная
Мотивнижнего мира в калмыцких волшебных сказках связан с архаическими представлениями о трехмирии. Мотив путешествия героя в нижний мир в калмыцких народных сказках является сюжетообразующим. Иногда герой сам отправляется в нижний мир, спускаясь по веревке с помощью побратимов или войдя в огромную яму. Попав в подземный мир из-за злых умыслов старших братьев, герой получает увечья и исцеляется благодаря волшебным листьям. Нижний мир (дорд орн) в сказочной традиции народа предстает как место обитания хтонических существ. Представители нижнего мира являются хранителями огня, обладают магической способностью при поглощении восстанавливать утраченные органы и конечности. Обитатели нижнего мира представляются враждебными людям. При встрече с человеком они не прочь полакомиться его кровью и мясом. Медноклювая старухашулмус с джейраньими ногами, живущая в расщелине земли, питается вшами и гнидами, пьет кровь, воткнув свой клюв в затылок. Шулмусы в калмыцких сказках могут принимать человеческий облик и вредить людям, отбирая у них еду. Чудовище-мус изображается огромным: одним своим клыком небо бороздит, другим клыком землю взрывает и рычит, питается человечиной. Змей характеризуется как ядовитый, сильный и гневный. Он заглатывает людей сотнями и тысячами, но герой одолевает его. Калмыцкая волшебная сказка показывает борьбу героя с двумя змеями: один пожирает людей, другой извечно воюет с птицей хан Гарудой, съедая ее птенцов. Герой спасает потомство мифической птицы и поднимается на ней в средний мир. При этом нижний мир населен не только хтоническими существами, но и людьми. Подземный мир представляется в калмыцкой сказке схожим с обычным миром. Здесь можно отметить, что подземный мир – это копия с «матрицы», которой является средний мир людей.
Бесплатно

Мотив одинокого дерева в калмыцкой лирике XX – начала XXI в.
Статья научная
Образ и мотив одинокого дерева в калмыцкой лирике ХХ – начала XXI в. не был объектом и предметом исследования. В фольклоре монголоязычных народов образ дерева наделен универсальным смыслом и функциями как Мировое дерево, дерево жизни, соединяющий в вертикальном измерении три мира – Верхний, Средний и Нижний, в горизонтальном измерении – четыре стороны света, наделен сакральным статусом. Культ одинокого дерева (һанц модн), отражающий культ дерева (модн), в калмыцком фольклоре передает мифо-религиозные воззрения предков, становится местом жизни и бессмертия, покровительства небесных сил, средоточием познания, защиты и возрождения, символом судьбы. Местонахождение одинокого дерева транслируется на высоте, в отдаленном пространстве, часто у водоемов. Психологический параллелизм артикулирует связь мира природы и мира человека в противоборстве или гармонии. В калмыцкой лирике ХХ в. образ одинокого дерева, с одной стороны, продолжает фольклорную традицию (символ жизни, родного края, народа, рода, семьи, любви, мудрости), с другой – трансформирует образ и мотив одинокого дерева, наполняя его новыми символами и кодами. Это уединенность общения индивидуума с одиноким деревом, активизация диалогической и монологической структуры текста, многообразие риторических фигур, дидактизм, притчевость, городской ландшафт, противопоставление разных видов деревьев, автобиографизм с топонимами родных мест, динамика роста одинокого дерева, мотив личной памяти с обращением к читателю. Как и в фольклоре, так и в калмыцкой лирике одинокое дерево остается либо безымянным, но с постоянным эпитетом-определением (одинокое дерево), либо конкретизируется (сосна, дуб, береза, тополь, лоза). Описание дерева характеризуется высотой, раскидистостью кроны, наличием листьев, иногда цветов и плодов, нахождением вдали от дорог, населенных пунктов, вблизи рек, ручьев, на горе, на скале или, напротив, в городе, под окном. Возраст дерева разнится – от юного до старого. Дерево показано в разное время года, суток, часто в противоборстве с природной стихией. В названии стихотворений обычно присутствует эпитет одинокого дерева с лейтмотивом одиночества в природе, беззащитности или, наоборот, сопротивляемости, победы. Для современной калмыцкой лирики не характерно внимание к этой теме по сравнению с предшественниками. В сравнительно-сопоставительном плане обращение к монгольской лирике прошлого столетия с мотивом одинокого дерева выявило родственные параллели и символы. Русские переводы стихотворений калмыцких поэтов не всегда соответствуют авторской интенции.
Бесплатно

Мотив превращения в калмыцких сказках на сюжетный тип "Волшебник и его ученик" (АТ 325)
Статья научная
В статье рассматривается мотив превращения в калмыцких сказках на сюжетный тип «Волшебник и его ученик» (АТ 325). В устной традиции калмыков данный сюжетный тип продуктивно используется в качестве «рамки». В калмыцких сказках на данный сюжет широко представлена фигура вредителя. В качестве учителей, преследующих ученика, выступают семеро великих магов, семь волшебников, Бакши, гелюнг и мус. В рассмотренных текстах именно семь магов, волшебников обучают юношей. Это число в калмыцкой мифоритуальной традиции является сигналом пограничного состояния между нашим и «иным» миром. Бегство ученика от учителя мотивировано: герой бежит от преследователя-антагониста, стремясь спасти свою жизнь, с помощью превращения в различных животных, птиц и рыб. Среди преследователей мус демонстрирует свою «непосредственную связь с хтоническими существами», превращаясь в золотошерстного жеребца владыки хозяев воды - усун хадын эзена, являя принадлежность «чужому» миру. Калмыцкие сказки на сюжетный тип АТ 325 «Волшебник и его ученик» показывают цепь превращений в разных животных учителя и его ученика. Эти превращения показывают возвращение героя из страны мертвых в страну живых. Локус, в котором происходят превращения, является границей миров. Вода как рубеж двух миров (в частности река, море, океан) отражается в картине мира предков калмыков. Во всех вариантах сказок продажа коня вместе с уздечкой оборачивается бедой для превращенного героя, так как узда, которой был укрощен конь, приобретала магическую силу.
Бесплатно

Мотив превращения в калмыцких сказках на сюжетный тип "чудесное бегство" (АТИ 313)
Статья научная
В устной традиции калмыков сказки на сюжетный тип «Чудесное бегство» (АТU 313) имеют национальную разработку и случаи заимствования. Этнической особенностью сказки «Ах дY хойр хулhн» («Братья-мыши») является то, что в ней мифическая птица хан Гаруда превращается в человека при надевании шапки, рукавиц и носков. Образ этот представляется наслоившимся на культ орла народов Южной Сибири и Центральной Азии, где исторически проживали предки калмыков - ой-раты. В сказке «Иван-царевич гидг кeвyнэ тууль» («Сказка о юноше по имени Иван-царевич»), заимствованной из русской устной традиции, герой также выхаживает птицу хан Гаруду, а не орла. Перевоплощенную (в девушку, соловую лошадь, ламу-священнослужителя) благодарную лису в сказке «Ах дy хойр хулhн» («Братья-мыши») называют «арат-мврн» -лиса-лошадь, «арат-куукн» - лиса-девушка, указывая на новый образ и ее изначальную сущность. Превращение героя сказки «Усн хадын хан» («Владыка хозяев воды») происходит благодаря чудесным способностям девушки при побеге из подводного мира. Герой сказки hорвн кyyктэ эмгн евгн хойр» («Старик и старуха с тремя дочерями»), младший из братьев, оборачивается в серого воробья (бор богшада). Представитель антагониста, посланец владыки хозяев воды, в сказке «Усн хадын хан» («Владыка хозяев воды») из легких и печени, плававших в воде, принимает облик человека. Сказки «hорвн кyyктэ эмгн евгн хойр» («Старик и старуха с тремя дочерями») и «Эгч-дy нтурвн» («Три сестры») разрабатывают мотив обращения предметов, которые достаются героям от их родителей. Чудесные вещи создают препятствия на пути преследователя: гору и лес. Непреодолимой для антагониста становится река, в традиционном мировоззрении калмыков представляющаяся границей миров. Следует отметить, что в калмыцких сказках используется универсальная контаминация мотива превращения небесных дев-лебедей в девушек с сюжетным типом «Мужчина преследуется из-за своей красивой жены» (ATU 465 А). Мотив превращения является сюжетообразующим и реализуется в разных формах бегства и погони, представляющих возвращение героя из иного мира в мир живых.
Бесплатно

Статья научная
В статье рассматривается мотив превращения в калмыцких сказках на сюжетный тип «Мужчина преследуется из-за своей красивой жены» (АТИ 465). Анализ показал, что мотив превращения лебедя в красивую девушку является сюжетообразующим, динамическим, так как дает толчок развитию сюжета. Герой, желая заполучить небесную деву, прячет обличие лебедя и вынуждает ее стать супругой. Лебеди в калмыцкой сказке описываются желтоголовыми - «шар толhата». Белый цвет, который коррелирует с солярной семантикой, дополняется желтым, усиливающим эту связь. Солнце в устной традиции калмыков имеет постоянный эпитет «алтн шар» - золотисто-желтое. Белая лебедь, которую поймал охотник, -младшая из дочерей Хормусты тенгрия, главы 33 небожителей-тенгриев. Жена неземной красоты, от которой исходит сияние солнца и луны, обладает атрибутами, обозначающими принадлежность иному миру: желто-пестрый платок (шар цоохр альчур), золотой гребень (алтн сам), золотое кольцо (алтн билцг). Благодаря превращению небесной девы охотник-сирота женится на ней, выполняет трудные поручения хана, приобретает волшебного помощника и, в конце концов, занимает его место, поднявшись на самый верх социальной лестницы. Таким образом, изучение мотива превращения показало, что он отражает архаичные представления о лебеде как священной птице, имеющей сакральное значение в традиционной культуре этноса, в том числе и материальной в виде костюма замужней женщины. Лебедь наделяется функцией медиатора между мирами и почитается у калмыков как тотемная птица.
Бесплатно

Мотив превращения в калмыцких сказках на сюжетный тип «Чудесная птица» (АТ 567)
Статья научная
В статье рассматривается мотив превращения в калмыцких сказках на сюжетный тип «Чудесная птица» (АТ 567). Калмыцкие сказки на данный сюжет можно разделить на две группы. Сказки первой группы заканчиваются тем, что братья приобретают волшебные предметы, старший из них становится ханом. Сказки второй группы с более сложной структурой, их сюжетообразующим мотивом является мотив превращения. В текстах первой группы отмечается неосознанное, но предопределенное судьбой превращение двух братьев, съевших голову и крыло чудесной птицы. Превращение старшего брата происходит на уровне его функций, когда он поднимается на самый верх социальной лестницы и становится повелителем - ханом. Младший брат преображается, приобретя красоту и новые чудесные способности. Анализ сказок второй группы показал, что мотив превращения героя в них является «динамическим», так как он «изменяющий ситуацию», «движущий» (по Б.В. Томашевскому). Герой принимает облик «беспомощного, социально отверженного существа -ребенка (сироты)», которого усыновляют бездетные бедные старик и старуха, обращается в животное и птицу. Превращение в животных (ослиц) как наказание ханской дочери с ее служанками герой проводит, используя вспомогательные средства (яблоко, лотос, лилия). Реализация изучаемого мотива дает разные формы, начиная от неосознанного превращения с неожидаемым результатом до осознанного превращения с ожидаемым итогом. Превращение происходит через вспомогательные средства животного и растительного происхождения. Отмечается в рассмотренных сказках и оборотничество как способность персонажа, причем не только в мире живых людей.
Бесплатно
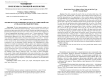
Мотив пути в калмыцких сказках на сюжетный тип АТ 508 "Благодарный мертвец"
Статья научная
В статье рассматривается мотив пути в калмыцких сказках на сюжетный тип АТ 508 «Благодарный мертвец». Анализ показал, что мотив пути реализуется представителями двух поколений. Вначале престарелый родитель мифологического возраста (восемь тысяч / пятьсот пятьдесят пять лет) отправляется с целью испрашивания наследника к своему заячи - гению-хранителю. Долготу пути символизируют железные башмаки и посох, которые старик берет с собой. Традиционные формулы пути также изображают его долготу. Сын, рожденный после проведения определенных ритуалов, подсказанных манджиком - послушником хурула, отправляется торговать. Испытание работника перед отправлением в путь, на наш взгляд, является переосмысленным и трансформированным представлением о еде, как имеющей «особое значение» для отправившегося в иной мир. По пути герой восстанавливает порядок, вернув долг умершего, возвращает мертвеца в могилу и дарует душе покой, приобретя, таким образом, благодарного помощника. Путь героя сказки описывается конкретными локусами: большой курган, солончаки, пески. Эти места являются пограничными зонами, где героя поджидают вредители - семья мусое-людоедов / мангасы. Благодарный мертвец добывает герою невесту (небесную деву / дочь хана), все вместе возвращаются домой. Однако герой предпринимает еще одно путешествие, уже в страну мертвых. Пройдя со своим помощником испытания владыки смерти Эрлик Номин хана, герой и благодарный мертвец возвращаются в мир людей. Представления об этом путешествии в мир мертвых у калмыков складывались под воздействием буддийской мифологии.
Бесплатно
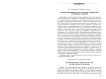
Мотив рождения героя в сказочно-эпической традиции калмыков
Статья научная
Систематизация фольклорных образцов на уровне мотивов представляется актуальной и значимой для исследования генезиса и развития сказочных и эпических текстов, восходящих к одной этнической традиции, а также для дальнейшего сравнительно-типологического изучения на более широком материале. Целью данной статьи является рассмотрение мотива рождения в устной традиции калмыков на материале сказок и эпоса в сравнении с мотивами монгольского эпоса, систематизированными С.Ю. Неклюдовым. Материалом для исследования мотивов сказочно-эпической традиции калмыков явились архивные материалы, тома «Хальмг туульс», тома «Свода калмыцкого фольклора». Анализ показал, что мотив рождения семантически неразложим, морфологически он раскладывается на отдельные элементы. Предикат (функция) рождение героя в сказочно-эпической традиции калмыков сопровождается различными мотивировками. Отсутствие наследника вызывает необходимость действовать, чтобы устранить это обстоятельство. Сказка развернуто показывает обстоятельства появления сына у престарелых родителей. Мотив рождения героя в сказочной традиции расширяется за счет описания бесчисленного множества скота четырех видов. В эпосе ситуация отсутствия наследника характеризуется лаконизмом изложения -недосказанностью. При этом мотив трансформируется с сохранением условий чудесного рождения героя от небесной девы. Эпический текст представляет архаические мифы о материнском начале Земли, отраженные в рудименте мотива петрогенеза. Мотив рождения, реализуемый через формулу «чудесные дети», дополняется обстоятельством рождения героя у бездетных стариков, а устойчивая формула данного мотива характеризует в эпосе персонаж старшего поколения Алтана Чееджи. В сказочной традиции поздний пласт представлений о рождении героя связан с воззрениями буддизма
Бесплатно
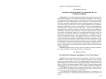
Мотив свадьбы в повести «Девичья честь» Санжи Балыкова
Статья научная
Статья посвящена рассмотрению мотива свадьбы в повести Санжи Балыкова «Девичья честь», написанной автором в эмиграции в 1938 г. Повесть была переиздана в Калмыкии в 1993 г. и вызвала большой интерес у читательской аудитории не только автобиографичностью содержания, но и подробным описанием быта, традиций и образа жизни донских калмыков-казаков в Задонской степи Сальского округа в начале XX в. В статье проанализированы этапы свадебного комплекса, описанного в повести. Сделан вывод о том, что в традиционной калмыцкой свадьбе у донских калмыков в конце XIX - начале XX вв. сохранились архаичные черты свадебного комплекса вследствие длительного обособленного проживания, например, обряд обручения и получения благословения в буддийском храме, использование конских жил для оформления сватовства, скачки для доставления специального войлочного надподушечника из приданого невесты, ритуальное кормление собаки в доме жениха. Вместе с тем автору удалось показать и наметившиеся процессы трансформаций в обрядах и ритуалах. Сравнительно-сопоставительный анализ со свадебным комплексом астраханских и ставропольских калмыков позволил выявить значимые отличия. Описание свадьбы как важнейшего механизма регуляции повседневной жизни калмыков, трансляции их духовных ценностей, мировоззрения и традиционных верований использовано С. Балыковым в качестве противопоставления губительным последствиям Гражданской войны.
Бесплатно
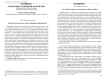
Мотив смеха и плача в калмыцком фольклоре
Статья научная
Данная работа посвящена исследованию мотива смеха и плача в калмыцком фольклоре. Актуальным является его реконструкция через типологические сравнения, поскольку он легко «узнаваем» в различных традициях. Материалом исследования послужили разножанровые фольклорные тексты калмыков - это кумулятивные сказки, реконструкция игры в числовые загадки и эпические тексты. В результате проведенного исследования были сделаны следующие выводы. Структурно-семантический анализ мотива выявил его архаические корни, восходящие к обрядовым функциям добуддийских верований о космогоническом начале. Так, в архаических верованиях калмыков и их предков ойратов обряд смеха символизировал акт воспроизведения, рождения, а обряд плача повторял обряд похорон. Беспрерывность данных актов в фольклоре передается через повтор, являющийся «наиболее архаичным приемом формирования структуры фольклорного текста». Акт коммуникации, выраженный через повторы в цепевидных структурах, является способом передачи «знаний традиции» о верованиях и представлениях из общей памяти о прошлом. Рудименты этих воззрений, разбросанные в фольклорных текстах и жанрах, при типологической реконструкции с древнегреческой буфонией и ритуалами древнетибетской религии бон обретают смысл и восполняют пробелы в нашем знании. В сказках и загадках метафорические функции смеха и плача имеют лучшую сохранность, нежели в эпических образцах фольклора, что вполне соответствует закономерностям развития народного творчества.
Бесплатно

Мотив чудесного рождения в синьцзян-ойратской эпической традиции "Джангара"
Статья научная
В статье рассматривается мотив чудесного рождения в синьцзян-ойратской версии эпоса «Джангар». Материалом исследования явились тексты песен синьцзян-ойратской эпической традиции «Джангара», опубликованные в Китае на ойратской письменности «тодо бичиг» («ясное письмо»), переложенные на калмыцкий язык известным востоковедом Б.Х. Тодаевой, а также ойратские тексты, изданные профессором Т. Джамцо. Рассмотрение мотива чудесного рождения в ойратской версии эпоса «Джангар» показало, что данный мотив основан на исключительности событий, сопровождающих появление чудесного младенца на свет: 1) пророчество тестя Узюнг-хана Гюртем Цецен-хана, что после пяти лет счастливой супружеской жизни случится беда, свершается; 2) напавший на ханство Узюнга Свирепый Шара Мангас убивает родителей, в живых остается только чудеснорожденный младенец, спрятанный в пещере; 3) осиротевшего младенца и его жеребенка находит Шигширги и забирает домой, нарекает сироту именем; 4) благопожелание-йорял, произнесенное во время имянаречения чудеснорожденного героя, явилось магическим благословением и предсказанием его будущего героического пути. Мотив чудесного рождения в рассмотренных ойратских песнях обнаруживает архаичные элементы: ребенок появляется из материнской утробы в околоплодном пузыре; способность ребенка говорить в утробе матери; багши-предсказатель предрекает младенцу великое будущее и произносит магическое благопожелание; рождение ребенка в «рубашке» явилось предзнаменованием героического будущего и обусловило его изолированность; взаимосвязь чудеснорожденного младенца с космическим верхом; быстрый рост; наречение героя богатырским именем; обладание физической силой и магической неуязвимостью. Чудеснорожденный герой архаического эпоса, являющийся хранителем очага и защитником рода-племени, хозяином несметных стад и обширных кочевий своего отца, трансформируется в центральный образ героического эпоса «Джангар», властелина бумбайской страны, утверждающего богатырское имя героическими подвигами.
Бесплатно
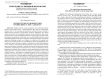
Мотив чудесного рождения героя в ранних циклах эпоса "Джангар"
Статья научная
Мифологическая основа калмыцкого эпоса «Джангар» прослеживается в его ранних циклах - Багацохуровском (1853-1862 гг.) и Малодербетовском (1862 г.). Они основаны на архаических сказочно-эпических мотивах и мифологических архетипах. Рассмотрение эпических нарративов двух ранних циклов калмыцкого эпоса «Джангар» выявило мотивы о рождении героя, имеющие различную основу. Малодербетовский цикл демонстрирует рождение героя, восходящее к архаическому сказочному эпосу, основой которого является мотив вымаливания ребенка бездетными стариками. Недетородный возраст Ага Шавдал вынуждает Джангара оставить ее и отправится в странствие. Он встречает волшебную деву, которая рождает ему сына Шовшура. Налицо трансформация мотива рождения героя у бездетных стариков с соблюдением условий чудеснорожденности. Эпическое повествование Багацохуровского цикла представляет сложное переплетение древних воззрений с многочисленными разностадиальными напластованиями, сохранившими в имплицитном виде, иногда утратившими свою первоначальную семантику. Цикл сохранил в сюжете представления об архаических мифах рождения: о появлении Солнца, воплощенного в эпическом тексте в своем основном символе - трех маралах; о материнском начале Земли, что отразилось в рудиментах мотивов петрогенеза и растениях-прародителях. В Багацохуровском цикле типологически устойчивая формула рождения героя-первопредка, обозначающая неведение о своем происхождении, трансформирована в особый локус, обеспечивающий вхождение в иной мир. Поздний пласт представлений о рождении героев в ранних циклах «Джангара» представлен понятием перерождений, основанным на буддийской мифологии.
Бесплатно
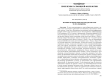
Мотивы в эпических песнях Джангарчи Телтя Лиджиева
Статья научная
В статье рассматриваются сюжетообразующие мотивы в записях песен от известного джангарчи Телтя Лиджиева, представителя эпической «школы» Ээлян Овла. Материалом исследования стали расшифрованные автором данной статьи аудиозаписи песен Телтя Лиджиева, зафиксированные Н.Ц. Биткеевым в 1970 г. в совхозе «Эрдниевский» Юстинского района КАССР (ныне Республика Калмыкия): «Песнь о поединке Улан Хонгора с устрашающе-грозным Мангна ханом, владеющим чалым конем Араг Манза»; «Песнь о богатыре Саваре Тяжелоруком»; «Песнь о Булингира сыне - Смуглом Строгом Санале, владеющим конем Бурал Галзаном»; «Песнь о том, как Красивейший во вселенной Мингъян пленил могучего Кюрмен-хана»; «Песнь о Хошун Улане, богатыре Джилгане и Аля Шонхоре». В эпических песнях Телтя Лиджиева сохранились мотивы, стадиально относимые к эпосу государственной формации: угона табуна, ультиматума, стрельбы из лука в погоне, преследования богатыря, пребывания богатыря в ставке антагониста, бумбайского знамени, богатырского поединка, клятвы богатырей, полонения антагониста, клеймения антагониста, победоносного возвращения. Целью данной статьи является рассмотрение сюжетообразующих мотивов в песнях калмыцкого эпоса «Джангар» поздней традиции в записях от известного джангарчи Телтя Лид-жиева. Для реализации данной цели мы рассмотрели элементы, которые строятся по единой модели эпического сюжета и включают в себя ряд сюжетообразующих мотивов, образующих устойчивую последовательность нескольких элементов: 1) героическая коллизия (причина, побуждающая героя к деянию); 2) выбор богатыря (отправление в поход); 3) преодоление пути (претерпевание препятствий); 4) героический подвиг; 5) восстановление мира. В результате проведенного анализа мы пришли к выводу, что сюжетообразующие мотивы в песнях поздней традиции бытования эпоса «Джангар», являясь частью повествовательной структуры, строятся по единой модели эпического сюжета и имеют нерасторжимую связь между собой. Так, мотив ультиматума, ставший источником конфликта двух враждующих сторон, явился причиной, побудившей отправить в боевой поход героя, который, преодолев препятствия в пути, вступает в поединок с противником, терпит временное поражение и вместе с прибывшими на помощь богатырями побеждает во много раз превосходящего по силе хана-антагониста и восстанавливает мир в бумбайском государстве.
Бесплатно

Народные песни в записи Ц. Д. Номинханова от большедербетовских калмыков
Статья научная
Востоковед Церен Дорджи Номинханов на протяжении своей научной деятельности собирал лингвистические, этнографические и фольклорные материалы, которые ныне хранятся в разных архивах России и Монголии. Среди материалов Научного архива Калмыцкого научного центра РАН примечательна рукопись, включающая тексты народных песен, записанные ученым в течение трех основных периодов сбора им фольклорных материалов среди монгольских народов. Дело «Калмыцкие народные песни» включает материалы, собранные с 1927 до 1962 гг. Песни зафиксированы Ц.Д. Номинхановым среди разных этнических групп. Цель статьи - дать общую характеристику народных песен, записанных исследователем среди большедербетовских калмыков (1927 г.), а также выявить некоторые языковые особенности на материале этих записей. Песни, записанные ученым у калмыков станицы Граббевской в 1927 г., составляющие первую часть рукописи «Калмыцкие народные песни», анализировались в другой статье. В следующей статье также планируется рассмотреть записи песен торгутов Синьцзяна (в записи 1935 г.) и песен из репертуара С.И. Манжикова, зафиксированных в 1962 г.
Бесплатно

Народные песни калмыков в записи Ц.-Д. Номинханова у уроженцев станицы Граббевской (1927 г.)
Статья научная
Востоковед Церен Дорджи Номинханов на протяжении своей научной деятельности собирал лингвистические, этнографические и фольклорные материалы, которые ныне хранятся в разных архивах России и Монголии. Среди материалов Научного архива Калмыцкого научного центра РАН примечательна рукопись, включающая тексты народных песен, записанные ученым в течение трех основных периодов сбора им фольклорных материалов среди монгольских народов. Дело «Калмыцкие народные песни» включает материалы, собранные с 1927 до 1962 гг. Песни зафиксированы Ц.-Д. Номинхановым среди разных этнических групп. Цель статьи - дать общую характеристику народных песен, записанных исследователем у калмыков донской станицы Граббевской в 1927 году, а также выявить некоторые языковые особенности на материале этих записей. Данная статья является первой частью исследования. В следующих статьях будут рассмотрены записи песен большедербетовских калмыков (1927 г.), песен торгутов Синьцзяна (в записи 1935 г.) и песен из репертуара С.И. Манжикова, зафиксированных в 1962 г.
Бесплатно

Статья научная
В статье на материале ойратского и монгольского переводов тибетского сочинения «Мани-камбум» рассматриваются проблемы подготовки текстов для загрузки в программу параллельного корпуса на тибетском и ойратском языках. Одна из проблем, с которой сталкиваются составители корпуса на материале старописьменных текстов, связана с тем, что большая часть дошедших до нас буддийских текстов на ойратском языке претерпела значительные изменения при переписывании. Для таких рукописей характерны многочисленные отступления от классического «ясного письма» («тодо бичиг»). Для них свойственны разного рода ошибки, которые касаются не только графического оформления, но и затрагивают содержательную сторону. В таких случаях обращение к монгольским переводам тех же самых тибетских исходных текстов дает возможность исследователям установить, не является ли то или иное написание графемы или слова ошибочным, восстановить их правильные написания, подобрать их правильный эквивалент. В ходе сопоставительного анализа монгольского и ойратского текстов переводов сочинения «Мани-камбум» затронут вопрос об их принадлежности к одной из двух разновидностей перевода - смысловому или дословному. Сопоставительный текстологический анализ двух переводов на материале ряда глав 1-го раздела «Мани-камбума» показал, что оба перевода основываются на принципах дословного перевода, которому следовал Зая-пандита. Объяснением пропусков некоторых строк в монгольском ксилографе, а также отступлений от тибетского текста может послужить использование иного списка или редакции тибетского текста, а также недочеты в работе переписчиков, готовивших печатное издание.
Бесплатно

Статья научная
В статье раскрываются способы решения проблем, возникающих при составлении двуязычного параллельного корпуса. Одна из них связана с отсутствием полного научного описания всего корпуса переводов Зая-пандиты Намкай Джамцо (XVII в.), что делает необходимым составление реестра ойратских переводов с тибетского языка, выполненных Зая-пандитой и его последователями, в котором бы нашли отражение наиболее полные характеристики сочинений, дополненные материалами публикаций переводов и сведениями интернет-ресурсов. Следующим важным моментом в разработке проекта является установление первоисточников на тибетском языке, послуживших Зая-пандите основой для перевода, что продолжает оставаться актуальной проблемой ойратоведения. Проведение сопоставительного текстологического анализа в ходе подготовки материалов к включению в состав параллельного корпуса необходимо по ряду причин. Во-первых, это связано с тем, что период переводческой деятельности ойратского просветителя относится к середине XVII в., соответственно до нашего времени могли дойти лишь их списки, копии, варианты и версии на «ясном письме», не свободные от ошибок. Во-вторых, имеющийся список переводов Зая-пандиты, составленный Ратнабхадрой, предельно лаконичен, что порождает ряд проблем, а именно сложность определения полного названия сочинения и установления, является ли имеющийся текст полной версией, полным переводом исходного тибетского текста с аналогичным титулом либо его фрагментом (частью или главой). Все перечисленные моменты проиллюстрированы на примере анализа текстов сочинений «Бодхичарья-аватара», «Панчаракша» и «Тарпаченпо». Таким образом, текстологические исследования являются неотъемлемой частью проекта на первоначальном этапе отбора образцов текстов для параллельного корпуса, но будут продолжены на этапе апробации первоначальной версии программы выравнивания параллельных текстов.
Бесплатно

Статья научная
В статье рассматривается рукопись двух песен Багацохуровского цикла эпоса «Джангар» на ойратском «ясном письме», привезенная в 1856 г. К.Ф. Голстунским после его первой командировки к калмыкам и хранящаяся в настоящее время в рукописном отделе библиотеки восточного факультета СПбГУ. Изучение ранних записей образцов калмыцкого фольклора в оригинале с позиции текстологии и источниковедения, выполнение транслитерации, сличение с переложением на современный калмыцкий язык представляются одной из важных задач для исследователей. Рукопись Calm C 17, записанная, по мнению С.А. Козина, во владениях нойонов Тюменей, содержит две песни - «О свирепом Хара Кинясе» и «О свирепом Мангасе», которые в тексте не озаглавлены и не отделены друг от друга. Анализ графики памятника показывает, что она близка классическому ойратскому «ясному письму» (исключение составляет нестандартное написание сочетания ng), поскольку сохраняет угловатую форму написания лабиальных o/o и корректную расстановку диакритических знаков. Отдельное внимание уделено графеме j, изначально входившей в число дополнительных транскрипционных знаков для передачи санскритских и тибетских слов, но к XIX в. перешедшей в состав старокалмыцкого алфавита. Написание этой буквы, имитирующей тибетский слог bya, в сочетании с гласным a в классическом «ясном письме» регламентировалось правилами тибетской орфографии, в которой данный гласный по умолчанию входит в состав слога и не прописывается, подтверждение чему мы находим в рассматриваемой рукописи. Сравнение с другой рукописью «Джангара» Calm C 4 из того же фонда, содержащей три песни Малодербетовского цикла 1862 г. записи демонстрирует изменение орфографических норм в написании сочетания ja, когда гласный a стал обозначаться отдельным зубцом. Рассмотрение графических и грамматических особенностей языка памятника позволяет сделать вывод о сильном влиянии калмыцкой разговорной речи.
Бесплатно

