Русская литература и литература народов России. Рубрика в журнале - Новый филологический вестник

Грани пушкинского мифа в поэзии Сергея Стратановского
Статья научная
Данное исследование обращено к проблеме функционирования пушкинского мифа в русской культуре. Актуальность исследования связана с дальнейшей разработкой пушкинского мифа как «основного мифа» русской культуры. Объектом рассмотрения стали стихотворения Сергея Стратановского, в которых имеется прямое обращение к образу Пушкина. Новизна работы обусловлена тем, что большинство из привлеченных для анализа текстов еще не становились предметом развернутого литературоведческого анализа («Акула-кунсткамера», «В пушкинском заповеднике», «Болдинские размышления», «Да, беспощадным, но вовсе не бессмысленным…», «Здорово Пушкин-то наш…»). В исследовании выявлена логика функционирования пушкинского мифа в поэзии 1980–2010 гг. В советскую эпоху творчество Пушкина становится одним из идеологических инструментов, посредством которого советская система обеспечивала свою легитимность. Уже в первых стихотворениях Стратановского, обращенных к Пушкину, предметом поэтической рефлексии становится не образ поэта, а бытование этого образа в рамках советской идеологии. В постсоветское время культивируемый предшествующей эпохой образ Пушкина-вольнодумца сменяется на образ поэта, тяготеющего к философско-религиозным раздумьям. В программном стихотворении «Болдинские размышления» (2000 г.) поднята важнейшая для «истории государства Российского» проблема соотношения культуры и религии. В 2010-е гг. происходит очередная трансформация пушкинского мифа, что находит отражение в позднем творчестве Стратановского. Образ Пушкина как поэта Империи получает свое развитие в таких стихотворениях, как «Да, беспощадным, но вовсе не бессмысленным…», «Здорово Пушкин-то наш…». В исследовании сделан вывод о жизнеспособности пушкинского мифа, которая обеспечивается его способностью встраиваться в любые, подчас противоположные, идеологические системы.
Бесплатно

Д.В. Аверкиев и П.И. Чайковский, или муравьиные следы
Статья научная
В статье с помощью подходов, характерных для культурной микроистории, осмыслены механизмы взаимопроникновения явлений культуры на границах разных областей искусства и науки, литературы, музыки, книгоиздания. Деятельность писателя, драматурга, критика, переводчика Дмитрия Васильевича Аверкиева (1836-1905) рассматривается как культуртрегерство, проявившееся в приобщении русской публики к ценным и важным достижениям европейской литературы и науки. Благодаря Аверкиеву русский читатель впервые познакомился с «Разговорами» Гёте, обратившими на себя внимание Н.С. Лескова, А.П. Чехова, В.В. Розанова, Д.С. Мережковского, П.А. Флоренского, читал произведения Ф. Купера, П. Мериме, О. де Бальзака, Л. Стерна, А.Ф. Прево, научные труды по физике, химии, физиологии, энтомологии, переведенные на русский язык просто, ясно и доступно. Адресатом Аверкиева были не только хорошо образованные и сведущие в науке люди, но и широкий круг обычных читателей, для которых работала издательская империя А.С. Суворина «Новое время». Примером того, какой отклик в принимающей культуре получила переведенная Аверкиевым книга, могут быть маргиналии П.И. Чайковского на страницах труда Дж. Лёббока «Муравьи, пчелы и осы» (1884). Знакомый с творчеством Аверкиева и просивший его написать либретто для несостоявшейся оперы о Ваньке-ключнике, в этом случае Чайковский был увлечен наблюдениями над муравьями, особенно в той части, где они напоминают людей.
Бесплатно

Два момента из прозы Елены Шварц: к проблеме контекстуальных смыслов
Статья научная
В статье рассматриваются фрагменты из двух прозаических произведений Елены Шварц «Площадь мальтийских рыцарей» и «Сербский монастырь», оба они входят в автофикциональный цикл «Литературные гастроли». Для соотнесения со шварцевскими фрагментами берутся похожие моменты из нескольких произведений - из пьесы «Вишневый сад» Антона Чехова, из песни «Сказка о несчастных сказочных персонажах» Владимира Высоцкого, из романа «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса, из песни «Ты дарила мне розы» Дианы Арбениной. Соотнесение сегментов из текстов Елены Шварц со схожими сегментами из названных текстов позволяет в итоге сформировать такие контексты, в пределах которых актуализируются смыслы, в рассматриваемых фрагментах присутствующие, но глубоко спрятанные, а потому отнюдь не всегда бросающиеся в глаза; это смыслы, связанные с пониманием положения человека в мире как трагического, с пониманием мира как средоточия трагизма и для каждого отдельного человека, и для человечества, наконец, с ощущением неизбежного конца - и мира, и человека. Такого рода эсхатологические смыслы, во многом присущие и лирической поэзии Елены Шварц, реализуясь в ее лирической прозе, могут считаться определяющими для шварцевского художественного мира и транслирующими важные грани мироощущения автора. Общим же итогом рассмотрения обозначенных контекстов следует признать актуализацию в сформированных на основании схожести контекстах смыслов, которые вне этих контекстов оказываются скрыты; в результате тексты-участники такого рода контекстов в смысловом плане взаимообогащают друг друга.
Бесплатно

Деконструкция советского авиационного мифа в художественной прозе "оттепели"
Статья научная
В статье рассматривается трансформация образов и мотивов советской литературы, объединенных темой авиации, в произведениях периода «оттепели». Соцреалистическая эстетика, сформировавшаяся в 1930-е - 1950-е гг. подвергается молодыми авторами критической рефлексии: ортодоксальная система советского мировоззрения становится плодородной почвой для переосмысления различных аспектов уже традиционной мифологии. Материалом исследования послужила повесть В.П. Аксёнова «Стальная птица», воплощающая тенденции, обозначившиеся в литературе указанного периода: гротеск и иносказательность в данном случае являются инструментами деконструкции соцреалистических культурных кодов. Авиационный миф, один из ключевых в структуре советской эстетики, претерпевает серьезные изменения: безусловно позитивная оценка близости властного и авиационного нарративов нивелируется, созидательный пафос сменяется разрушительным, функции вестничества (передачи истины - воли государства - гражданам посредством агитационных материалов, в раннесоветской литературе данная функция маркирована позитивно), защиты (охрана «спокойствия наших границ» от любого внешнего врага) обретают обратную знаковость: главный герой организует распространение поддельных старофранцузских гобеленов, что указывает на подлог, фальсификацию истинных ценностей, сам начинает всячески притеснять жильцов дома, куда он вселился, не имея на то никаких прав, а потом и вовсе обретает полную власть над собственным соседями, так, в тексте актуализируются мотивы надзора и наказания. Отдельно обозначены интенции метафорически воплощенной в образе Стальной птицы советской власти относительно использования мировой культуры для собственной легитимации в рамках концепции «Москва - третий Рим». В этом контексте актуализируется мотив «ткачества», метафоры текстопорождения, и пропаганды - тотального распространения «текстов»-гобеленов, что позволяет говорить о деконструкции одной из ключевых функций ортодоксального авиатора - вестничества - и профанировании дискурса в целом. Таким образом, авторская стратегия В. П. Аксёнова обнажает тенденцию к разрушению соцреалистического канона и в частности - авиационного мифа.
Бесплатно

Статья научная
В настоящей работе представляется новый материал – ранее неизвестные дневниковые записи В.Н. Муромцевой-Буниной, хранящиеся в Русском архиве в Лидсе (Великобритания) и описывающие 1941–1943 гг. как один из важнейших периодов жизни Буниных во время эмиграции во Франции. Рассматриваемый дневник Веры Николаевны становится важнейшим источником сведений о культурной жизни эмиграции. Во-первых, здесь она говорит о переписке с другими творческими деятелями эпохи, а также упоминает имена персоналий в своих письмах друзьям и близким, создавая тем самым круг общения с эмигрантами, которые остались в Париже. Во-вторых, фиксирует встречи с представителями интеллигенции русского Зарубежья во Франции, что в свою очередь составляет отдельный круг эмигрантской культуры. Речь идет о взаимоотношениях Буниных с Мережковскими в последние годы их жизни, Зайцевыми, Либерманами, Тэффи и др. Несмотря на множество бытовых и финансовых проблем, с которыми столкнулись представители русской эмиграции в тот период, культурное общение между литераторами и философами продолжалось. Дневник Веры Николаевны проливает свет на возможности, которыми писатели в эмиграции пользовались для развития культурных связей: обширная переписка с близкими друзьями, знакомыми, представителями творческой интеллигенции, оказавшимися в разных точках мира, встречи с русскими писателями, их друзьями и родственниками, находившимися во Франции, а также оказание помощи тем, кому она была необходима в тот период и принятие помощи от других.
Бесплатно

Дневники В.Н. Муромцевой-Буниной: вопросы источниковедения и текстологии
Статья научная
В статье впервые рассматриваются дневники В.Н. Муромцевой-Буниной в своей целостности. Описаны все сохранившиеся автографы дневника, а также их машинописные тексты. По упоминаниям в эмигрантских записях установлен год начала систематического ведения дневника В.Н. Муромцевой 1911 г. Практически все дореволюционные дневниковые записи В.Н. Муромцева оставила в Москве у родственников при отъезде с И.А. Буниным в Одессу летом 1918 г., захватив лишь отдельные записи за 1905, 1914-1915 гг. Исследованы особенности дневников В.Н. Муромцевой-Буниной по форме и содержанию. Сохранились автографы и машинописные варианты дневников, которые далеко не всегда совпадают с автографами. Вероятно, машинописные тексты В.Н. Муромцева готовила для публикации в эмигрантской периодике или отдельным изданием. Ею были подготовлены машинописи за 1918-1922, 1924-1927, 1931-1933 гг. Однако этот замысел не был осуществлен, а работа над машинописным текстом не была закончена. В статье определено время и прослежен ход работы над машинописями. Отдельное внимание уделено машинописным текстам дневника за 1919 г., т.к. он имеет варианты. Отмечается, что с дневниками В.Н. Муромцевой был знаком И.А. Бунин и положительно оценил их. Установлено, что И.А. Бунин читал дневники жены во время работы над «Окаянными днями». Настоящая подготовительная работа направлена на достижение главной цели подготовить научное издание полного текста дневников В.Н. Муромцевой-Буниной со всеми вариантами и научным аппаратом.
Бесплатно

Дьяволиада в творчестве Леонида Андреева. Мир как «репродукция ада». К постановке вопроса
Статья научная
Целью работы является рассмотрение образа инфернального героя (черта, дьявола, Сатаны) в творчестве Леонида Андреева как ключевого маркера «вывернутости» и нестабильности мира, вызванной «смертью Бога» – идеей, ставшей центральной для переоценки ценностей на рубеже XIX–XX вв. Исследование опирается на философские, дневниковые и художественные тексты писателя, в которых демонология Андреева формируется на пересечении неомифологического мышления Серебряного века и экзистенциального сомнения в традиционных ценностях (Бог, истина, мораль). При анализе прозы и драматургии (в частности, «Покой», «Правила добра», «Черт на свадьбе», «Анатэма», «Дневник Сатаны»), в статье показано, как черт и дьявол в творчестве писателя утрачивают романтический ореол и становятся носителями «бытового зла». Через образ инфернального героя раскрывается парадоксальность человеческой природы, а христианские истины представляются в искаженном виде. Ад в рассмотренных произведениях Андреева обретает узнаваемые черты земной жизни, а дьявол становится не только искушающим, но и исполнительным чиновником загробного мира. Отмечается, что инфернальные герои выполняют функции, связанные с идеей справедливости как беспрекословного следования догме. Таким образом, образ дьявола в творчестве Андреева оказывается отражением глубинного мировоззренческого кризиса, в центре которого – сомнение в божественном начале и невозможность создания новой ценностной модели мира.
Бесплатно

Е.И. Зильберберг на страницах дневников и мемуаров В.Н. Муромцевой-Буниной
Статья научная
Мемуары и дневники В.Н. Буниной – уникальные документы эпохи. Мемуары (как широко известные, так и неопубликованные) охватывают дореволюционный период жизни писательницы. «Ранние» «Беседы с памятью» и некоторые газетные очерки повествуют о детстве, отрочестве, юности и годах учебы, – о жизни Веры Муромцевой до встречи с И.А. Буниным. Дневники, которые В.Н. Бунина вела на протяжении всей жизни и c постоянностью (в некоторые годы записи велись практически каждый день) – тоже содержат ценнейший и уникальный массив информации, особенно о жизни русской эмиграции во Франции 1920–1940-е гг. На протяжении всей жизни В.Н. Бунина была вхожа во многие интеллигентские, издательские, литературные и религиозные круги, имела большое количество связей и корреспондентов по личной переписке. Некоторые сведения В.Н. Буниной буквально являются единственным источником, по которым можно заполнить белые пятна биографий известных деятелей первой половины XX в. Яркий пример тому – сведения о жизни Евгении Ивановны Зильберберг (1883–1942) со страниц мемуаров и дневников Буниной. В статье подробна описана первая встреча зимой 1900 г. в «тайном обществе» юных «революционерок»: Веры Муромцевой и Евгении Зильберберг, первые годы дружбы и учебы (1900–1906) и годы совместной эмиграции (1920–1940 гг.). В Париже подруги сошлись вновь в 1920 г. и поддерживали связь до середины 1930-х гг. В.Н. Бунина наблюдала и фиксировала в дневнике переживаемые Евгенией Ивановной сложные перипетии судьбы и всегда восхищалась ее силой воли. В.Н. Бунина не забывала подругу и после ее смерти в 1942 г.
Бесплатно

Статья научная
В статье анализируется специфика преломления традиции романа воспитания в советской прозе 1920-х – начала 1930-х гг. В частности, с помощью сравнительно-исторического метода и метода целостного анализа литературного произведения исследуется впервые выявленный Т. Мотылевой тип романа воспитания (Bildungsroman) – роман перевоспитания – на материале романов М. Шагинян, А. Бондина, Б. Ясенского, знаменующих «протоканоническую» фазу литературы соцреализма. Установлено, во-первых, что советский роман перевоспитания предлагает заданный путь героя, на передний план выводится оппозиция «старого» / «нового», буржуазного прошлого / светлого коммунистического будущего (сопоставление старого и нового реализуется на уровне хронотопа, маркируется черно-белой графикой). Во-вторых, характерная для романа воспитания функциональная пара «учитель – ученик» в романе перевоспитания претерпевает некоторые корректировки: возраст, опытность наставника перестают быть основополагающими характеристиками, поскольку герой имеет сформированную мировоззренческую позицию – на первый план выходит идейная составляющая. В-третьих, герой романа перевоспитания сопротивляется новым идеям; его перевоспитание – это внутренняя перестройка, формирование новых представлений о мире, который недавно был для него чужим. В-четвертых, если в романах М. Шагинян и А. Бондина оппозиция свой / чужой воплощена в сознании героев, то у Б. Ясенского она реализована территориально (герой – американец, представитель другой национальности и культуры) и идеологически.
Бесплатно

Жанровые и мотивно-тематические аспекты циклизации книги стихов “Me eum esse” В.Я. Брюсова
Статья научная
Книга стихов с ее цельностью и строгой композицией, подчиненной конкретной авторской идее, становится нормой для символистских изданий лирики. Именно В .Я. Брюсов формулирует в предисловии к «Urbi et Orbi» (1903) принципы такой «сверхциклизации», сравнивая книгу с романом, а разделы - с главами. Однако на практике к идее книги стихов он приходит еще раньше. В данной статье рассматривается книга «Me eum esse» (1897) с точки зрения тех аспектов, которые повлияли на ее структурную организацию. Во-первых, внимание обращено на тематический принцип. Он представляет собой конфликт между поэтическим миром, сотворенным воображением художника, и миром реальным. В книге стихов последовательно разворачивается сюжет, в котором лирический субъект пытается преодолеть границу обыденной действительности. Эта борьба связана с выбором между земными страстями, воплощенными в образе возлюбленной, и заветами, которые передает лирическому субъекту поэт-наставник. Во-вторых, проанализирован жанровый аспект. Представляется, что в книге обнаруживаются следы элегической традиции. Прежде всего речь идет об оппозиции невозвратного индивидуального времени человека и природного циклического времени. В книге это трансформируется в разрыв между сосредоточенностью на прошлом в реальном мире и бессмертии в поэтическом. Два типа времени в книге также даны через характерные для элегии обозначения осени как умирания и весны как возрождения. Из той же жанровой традиции, если рассматривать это в рамках сюжета, приходит связь мечты с поэзией и сопутствующие этому образы. Соединяясь, оба принципа создают особую гармонию, которая отсутствует в сборниках. Структурные принципы, реализуемые Брюсовым в «Me eum esse», намечают то, как будет пониматься книга стихов в дальнейшем.
Бесплатно

И.А. Бунин и его эпоха в цикле мемуарных очерков В.Н. Муромцевой-Буниной
Статья научная
В статье проанализированы очерки В.Н. Буниной 1920-1930-х гг. Всего В.Н. Бунина опубликовала 15 очерков (1927-1936), а затем долгое время не печаталась. В статье изложена история публикации текстов, а также их взаимосвязь с очерками 1950-1960-х гг. и с двумя книгами мемуаристки «Жизнь Бунина» и «Беседы с памятью». Очерки 1920 -1930-х гг., на наш взгляд, можно разделить на два цикла: 1) о себе и семье 2) о бунинском окружении. Первый цикл текстов основан на объемной неопубликованной автобиографической рукописи В.Н. Буниной, где мемуаристка описала свое детство, отрочество, юность и уделила внимание гимназической среде. Второй цикл текстов посвящен литературной среде середины 1900-1910-х гг., и окружению И.А. Бунина. Мы предлагаем расценивать этот неопубликованный материал и очерки о писателях бунинского окружения как своеобразный ненаписанный автобиографический текст под заглавием «Жизнь Муромцевой-Буниной», где тексты о собственной жизни мемуаристки можно назвать «Жизнью Муромцевой», а тексты, описывающие литературную среду, в которую попадает В.Н. Бунина с момента начала совместной жизни с Буниным - «Жизнью Буниной». В статье мы преимущественно фокусируемся на очерках о бунинском окружении: «Л.Н. Андреев», «С.А. Найденов», «Юшкевич», «Московские “Среды”», «Piccola Marina». На наш взгляд, все эти очерки формируют общий цикл, объединены единым замыслом, общими героями: И.А. Бунин, Л.Н. Андреев, общим социально-литературным пространством - московским литературно-художественным кружком «Среда». Очерки также содержат ряд сквозных сюжетов, фрагментарно проявляющихся в разных текстах. Отдельное внимание уделено очерку про Д.Н. Овсянико-Куликовского как «срединному» тексту между «Жизнью Муромцевой» и «Жизнью Буниной».
Бесплатно

Идея дома в системе ценностей русского революционера в рассказе В.Г. Короленко "Чудная"
Статья научная
Обращение к поставленной проблеме обусловлено важностью понимания роли дома в обществе. Во второй половине XIX в., когда происходили изменения традиционных представлений о доме и семье, разрушались старые устои, в сознании русских революционеров идея дома вызывала противоречия. Сюжетную основу рассказа составляет эпизод из жизни революционерки Морозовой, описанный молодым жандармом, сопровождавшим политзаключенную к месту ее поселения. Ключевое внимание уделяется изображению личности главной героини-«политички» и ее конвоира, взаимодействие которых приводит к характерной для России парадоксальной ситуации. Устанавливается, что художественный конфликт произведения имеет в своем основании прежде всего не противоборство человека и системы, а противоположность аксиологических позиций главных героев. Анализируется художественная реализация истинного и ложного дома в восприятии главной героини. Определяется, что особое место в художественной структуре рассказа занимает топос дома, представленный в различных версиях, актуализирующих важнейшие философские, духовно-нравственные смыслы. Короленко показывает, как в сознании молодых людей конца XIX в. Дом во всех семантических значениях лишается своего главного места как общечеловеческая ценность. В финале образ утраченного родового гнезда Морозовых коррелирует с картиной разрушающегося под воздействием социального бесправия и радикальных идей патриархального мира России, которая для всех в равной степени остается одним общим Домом.
Бесплатно

Идея земного и небесного приюта в рассказе В. Г. Короленко «Федор Бесприютный»
Статья научная
Обращение к поставленной проблеме обусловлено онтологической значимостью истинных ценностей для каждого человека и общества в целом в любую эпоху. Исследователи не раз отмечали, что сюжетную основу произведений Короленко нередко составляют нравственные поиски и самоопределение героя, как правило, простого человека со сложной судьбой - именно такая ситуация является центральной в рассказе «Федор Бесприютный». Актуальность заявленной темы связана с изучением центральной проблемы данной статьи - рассмотрением за социальной проблематикой этического и онтологического подтекста. Научная новизна заключается в исследовании религиозно философской, экзистенциальной проблематики, которая не рассматривалась при анализе этого произведения ранее. Сюжетной основой рассказа являются события, произошедшие в партии арестантов, следующих пешим ходом по сибирскому тракту к месту заключения. Ключевое внимание уделяется изображению личности главного героя, в детстве попавшего в заключение с отцом и обреченного на жизнь бродяги. Устанавливается, что Федору важно понять устроение мироздания и место и роль человека в нем - от этого зависит решение проблемы смысла жизни. Главным для героя является вопрос об ответственности человека, которая простирается за грань его земной жизни, в инобытии. Неожиданная встреча Федора Бесприютного с немолодым инспектором, конвоировавшим его двадцать лет назад, выявляет нравственно этическую систему координат каждого из персонажей, позволяя увидеть в их жизненных позициях аллюзию на евангельскую притчу о мытаре и фарисее. В ходе анализа становится понятно: в рассказе Короленко отчетливая социальная проблематика таит под собой проблемы этического характера. Лишенный с малолетства родного дома, Федор Бесприютный старается создать в своей партии некое подобие семьи и вносит в жизнь каторжных и ссыльных главные нравственные принципы: справедливость, милосердие и любовь. Оставшись в своей жизни бесприютным, он стремится устроить приют для кого может, безотчетно следуя высшему нравственному закону, ставшему для него главной душевной опорой в жизни.
Бесплатно

Илья Эренбург и итальянские интеллектуалы: переводы и издания (по материалам РГАЛИ)
Статья научная
Статья посвящена взаимоотношениям писателя И.Г. Эренбурга с итальянскими левыми интеллектуалами, занимавшимися переводом и изданием книг советского автора в Италии. Материалом для исследования служит корпус переписки Эренбурга с издателем Дж. Эйнауди, переводчиками П. Цветеремичем и Г. Крайским. В качестве дополнительных материалов привлекаются публикации в левой прессе, дающие информацию об итальянской рецепции книг Эренбурга. Исследование охватывает период «оттепели», когда Эренбург был одним из самых известных за рубежом советских литераторов. Издание его книг в Италии помещается в широкий политический и культурный контекст: анализируются причины популярности советской литературы среди итальянских интеллектуалов, рассматривается конкуренция между издательствами за право перевода и публикации книг наиболее популярных писателей и следствия этой конкурентной борьбы (значимость личных связей советских и итальянских интеллектуалов в культурном взаимодействии, появление переводов-«дублетов» и проектов переиздания уже вышедших книг). Переписка, послужившая материалом для настоящего исследования, показывает, как перечисленные факторы реализовывались в конкретной ситуации издания книг Эренбурга в Италии. Письма левых интеллектуалов и ответные письма советского автора содержат ценную информацию о процессе издания в Италии таких книг Эренбурга, как «Оттепель», «Необычайные похождения Хулио Хуренито», «Люди, годы, жизнь», и шире – о механизмах культурного взаимодействия СССР и Италии.
Бесплатно
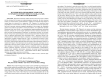
Истории нереализованных замыслов М. Горького: почему повести "Мать" и "Сын" так и не стали дилогией
Статья научная
Творческое наследие любого писателя или поэта едва ли можно считать полным без изучения его нереализованных замыслов. Без них довольно сложно до конца понять художественный и идейно-эстетический мир автора. В полной мере это относится и к творчеству А.М. Горького. Его наследие также разнообразно и многослойно по своему составу. Большое количество произведений этого писателя получили широкое признание во всем мире, им посвящено немало исследовательских работ не только российских, но и зарубежных авторов. Несколько хуже дело обстоит с так называемыми нереализованными замыслами Горького, которые по тем или иным причинам получили меньшее внимание или вовсе остались незамеченными. Возможно, это произошло потому, что исследователи считали тему невоплощенных замыслов неперспективной. Однако восполнить эти пробелы необходимо. Цель настоящей статьи - заполнить лакуны в изучении раннего творчества Горького, связанные с несостоявшимися замыслами; представить историю создания повести «Сын», как наименее изученную в горь-коведении; разобраться, почему повести «Мать» и «Сын» так и не стали дилогией; понять, какой художественный прием объединяет нереализованные замыслы в творчестве Горького. Поставленные цели выдвигают ряд задач, некоторые из них определяют научную новизну данной статьи: в ходе проведенного исследования были названы и освещены истории нескольких наиболее известных нереализованных замыслов писателя, достаточно полно исследованных учеными-филологами; более подробно представлен наименее изученный неосуществленный замысел Горького - повесть «Сын» - продолжение повести «Мать»; обозначены причины, по которым дилогия не состоялась.
Бесплатно

Исторический контекст "Вопросов литературы" Л. Рубинштейна
Статья научная
На материале поэмы Л. Рубинштейна «Вопросы литературы» (1992), репрезентируемой, с одной стороны, самим поэтом-концептуалистом как пространственный перформанс с аудиальным публичным зачитыванием карточек каталога, с другой - в восприятии современных исследователей как традиционный текст, представленный в печатном виде на страницах сборника «Регулярное письмо» (1997), авторы работы показывают, что форма презентации концептуалистского произведения не только влияет на его восприятие и научно-критическую интерпретацию, но и кардинально трансформирует их. В современных условиях, когда происходит угасание практик разного рода концептуалистских хэппенингов, восприятие «каталожной» поэзии Рубинштейна не в виде публичного перформанса, но в привычно-книжном формате актуализирует глубинные векторы ее прочтения, заставляет посмотреть на карточки как на сплошной единый текст и разглядеть в нем слагаемые традиционного литературного произведения. В ходе исследования показано, что иной ракурс репрезентации, а, следовательно, и восприятия позволяет контурировать ранее не видимые в визуальном объекте-перформансе традиционные слагаемые собственно литературного текста - образ лирического героя, образ автора, формы сюжетно-фабульного построения, композиционные особенности и проч. С этой целью к осмыслению концептуальной поэмы Рубинштейна впервые применены принципы традиционного литературоведческого анализа. Подробно исследуя текстовые составляющие, собственно поэтику концептуалистской поэмы Рубинштейна авторы демонстрируют опровержение манифестационно декларируемой концептуалистами «бессодержательности» текста, обнаруживают его «генетическую» связь с событиями современной истории.
Бесплатно

Исторический роман и житийная литература роман протоиерея Николая Агафонова «Жены-мироносицы»
Статья научная
В романе протоиерея Николая Агафонова «Жены-мироносицы» гармонично сочетается поэтика исторического романа и поэтика современной житийной литературы, имеющие много общих жанровых особенностей. Известные инварианты исторического романа, характерные и для современной житийной литературы, - это кризисная эпоха как время действия, соединение мотивов общественной и частной жизни, противопоставление представителей разных культурно-исторических сил, наличие исторической справки. Как в художественной прозе, так и в современной житийной литературе, сила самого факта, документа, становится эмоциональной кульминацией повествования. События, известные из Евангелия, достоверны и воспроизводятся в точности. В качестве романиста отец Николай широко прибегает к вымыслу, что специально оговорено в предисловии; сочиняются эпизоды и реплики, которые проясняют для читателя связь между известными событиями. Так, из предыстории Марии Магдалины в Евангелиях сообщается только, что Господь изгнал из нее семь бесов; романист сочиняет историю о том, как в Марию вследствие тяжелого потрясения в детстве «вселилось семь бесов», то есть постигла тяжелая форма заболевания, поскольку на языке Священного Писания число семь есть символ полноты. Из европейской агиографии взяты сюжеты о проповеди Марии в Риме и в Галлии. Принцип документальности, преобладающий в современной житийной литературе, последовательно применяется и в романе «Жены-мироносицы». Научно-популярное Приложение облегчает для читателя изучение исторической основы романа. Писатель кратко излагает здесь сведения о мироносицах, а также прилагает свой конспект научного богословского труда епископа Михаила Грибановского «Над Евангелием» (1896), где, в частности, была выявлена последовательность всех известных из Евангелия событий Воскресной ночи. Подлинные исторические сведения, в противовес распространенным домыслам, расширяют кругозор читателя, что характерно как для исторического романа, так и для современной житийной литературы.
Бесплатно
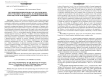
Статья научная
В цикле статей выявлены важнейшие этапы истории переводов на немецкий язык романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» (1866), сыгравшего особую роль в восприятии наследия писателя не только в Германии, но и в Европе в целом. Комплексно исследуются причины множественности переводческих интерпретаций романа «Преступление и наказание» в Германии, подробно рассмотрена роль переводчиков и издательств в истории немецкой переводческой рецепции указанного произведения. Во второй статье цикла представлен полный обзор известных в настоящее время переводов романа на немецкий язык, выполненных с 1910-х гг. до настоящего времени. Впервые изложены факты реализации проектов издательств «Инзель» и «Ауфбау» по выпуску собраний сочинений Ф.М. Достоевского в Германии. Проведенная реконструкция истории переводов «Преступления и наказания» на немецкий язык, анализ роли издательств и просветительских проектов по выпуску собраний сочинений Достоевского позволили объяснить причину множественности переводческих интерпретаций указанного произведения (Г. Рель, А.С. Элиасберг, Р. Хоффманн, М. и Р. Бройер, С. Гайер). Установлено, что фактами немецкой культуры в указанный период становятся переводы романа, подготовленные Г. Релем (1912), А.С. Элиасбергом (1921), Р. Хоффманном (1960) и С. Гайер (1993). Множественность переводов и описанные в статье детали их появления свидетельствуют о влиянии определенных политических и культурных событий в Германии в XX-XXI вв. на популярность романа «Преступление и наказание» и рецепцию творчества Достоевского в немецкой культуре.
Бесплатно

Источники статьи Д. С. Мережковского «Пушкин»: достоверное и «ложное»
Статья научная
В статье речь идет об источниках статьи Д.С. Мережковского «Пушкин». Как и в случае других статей, составивших «Вечные спутники» (1897), он опирался на творчество своего героя и труд о нем. Одним из важных источников этой статьи были «Записки А.О. Смирновой» (1895). Вскоре после их публикации, осуществленной Л.Я. Гуревич, их достоверность была поставлена под сомнение. В.Д. Спасович высказал мнение о том, что «Записки» не могут считаться достоверным историческим источником для характеристики Пушкина и его эпохи. Мережковский взял из этого источника 22 цитаты, которые составили его пушкинскую мифопоэтическую конструкцию: поэт и самодержец; русский поэт и европеец; русский поэт и мировая литература; поэт и высшее общество, свет, поэт и свобода воли, поэт и Бог, герой созерцания и герой действия (Пушкин и Петр I). Для Мережковского в «Записках А.О. Смирновой» важно соответствие пушкинского образа тому, который сформирован произведениями поэта, не достоверность высказанных свидетельств, а их мифопоэтический потенциал. «Записки А.О. Смирновой» как исторический источник искажают особенности личности Пушкина, его творчества и литературную ретроспективу, в которой она рассматривается. Но как материал для создания литературного мифа о Пушкине они достоверны в том смысле, как психологически достоверен миф. Этот вывод важен для публикации «Вечных спутников» в цифровом собрании сочинений: мы можем указать на использованные Мережковским цитаты из «ложных» «Записок А.О. Смирновой» и представить полный текст первой части, чтобы современный читатель смог самостоятельно оценить
Бесплатно

К лирической коммуникации Мандельштама и Цветаевой: от диалога поэтов - к диалогу текстов
Статья научная
В настоящей статье адресованные друг другу стихотворения Марины Цветаевой и Осипа Мандельштама рассматриваются как единый диалогический комплекс, пронизанный родственной топикой и общими нарративными элементами. Специфика этого диалога в его «сокрытости», энигматичности. В ходе анализа раскрывается механизм смыслопорождения - в контексте лирической адресованности (в присутствии Другого). Показывается, что посвященные друг другу тексты поэтов содержат - помимо лично-биографических - поэтологические и историософские подтексты, выявляемые на культурно-ассоциативном, интертекстуальном и фоносемантическом уровнях. В статье проанализированы общие топосные, хронотопические и мотивно-фабульные паттерны, которые приводят к формированию общего для Цветаевой и Мандельштама двойного образно-сюжетного кода. Так, Цветаева в несобранном цикле посвящений Мандельштаму создает авторский вариант мифа о Поэте, который, проецируясь на реальный образ адресата, одновременно проецируется и на героя Смутного времени - Лжедмитрия. В «московских» посвящениях Мандельштам, вступая в диалог - не столько с Цветаевой, сколько с ее адресованными ему текстами, подхватывает исторические ассоциации, присутствующие в цветаевских подтекстах, и блестяще их воплощает. При этом неназванное имя Цветаевой становится тайным посвятительным индексом и одновременно шифровальным ключом к сюжету, разыгрываемому одновременно в настоящем и далеком прошлом. Мандельштам выдвигает свою версию событий Смутного времени и предчувствует возможность их повторения в будущем. Имя Цветаевой, по мысли автора статьи, закодировано и в поэтической семантике и фонетике крымского стихотворения Мандельштама «Бессонница. Гомер. Тугие паруса.», что дает основание увидеть в нем еще одну скрытую адресацию Цветаевой. В заключении статьи показано, что лирическая коммуникация поэтов не ограничилась атрибутированными посвящениями: она продолжилась и после их расставания, но это была уже не перекличка «двух голосов», а интертекстуальное эхо текстов.
Бесплатно

